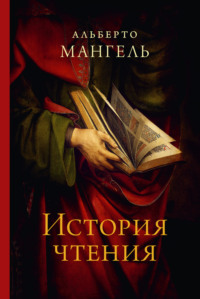Reviews of the book «История чтения», 45 reviews
Действительно очень любопытная книга, в которой рассказывается о том, как менялись традиции в читательской культуре. Немного иначе начинаешь в этом плане смотреть на историю чтения – в книге много любопытных фактов, интересных подробностей, которые мне раньше нигде не встречались.
Альберто Мангуэль – личность довольно известная в литературных кругах. С самого раннего возраста он был знаком с Борхесом, которому читал вслух (аргентинский классик к тому времени потерял зрение). В 70-ых сотрудничал с такими престижными французскими издательствами, как Галлимар и Деноель. Затем успел поработать в Канаде, Англии и Италии, чтобы снова вернуться во Францию, где он проживает до сих пор. В небольшой деревушке около Пуатье он соорудил частную библиотеку, насчитывающую около 30 тыс. книг. Там, в компании своей бернской овчарки Люси он читает...“читает, чтобы жить” как написал бы Флобер. Именно об этом его книга под названием “История чтения”, которую вряд ли можно назвать культурологическим исследованием. Это скорее большое эссе на тему книги, о книге, во имя книги. Я бы даже сказал, что это очень интимное произведение о любви между книгой и человеком. Пригнув в море книг, в котором он научился плавать совсем рано, Альберто Мангуэль добровольно тонет в нем и не хочет быть спасенным. Как тут не вспомнить строчки Леопарди:
“И среди этой Безмерности все мысли исчезают, И сладостно тонуть мне в этом море”
Мангуэль, как я думаю и большинство заядлых читателей, словно фетишист относится к книге как живому, почти сакральному предмету. В юности, работая в одной из книжной лавок Буэнос-Айреса он доходил до того, что утаскивал с собой понравившиеся ему издания: “Несколько раз я крал самые соблазнительные книги; я уносил их домой в кармане куртки, потому что мне мало было попросту прочитать их; я должен был обладать ими, называть их своими”. Чтение для Мангуэля – не просто культурное явление и тем более приятное времяпрепровождение. Для него это ни много ни мало форма жизни. Такой пафос он и предал своей “Истории чтения”. Я по-хорошему завидую Альберто Мангуэлю. Мысленно представляю его будний рабочий день. Он, окруженный книгами, увлеченно читает одну из них. Ему поступает звонок на телефон и на вопрос: “Сеньор Мангуэль, здравствуйте. Не отвлекаю я Вас?” Он отвечает: “Простите, я очень занят, я работаю!” Мангуэль написал книгу, которую я бы сам хотел создать в будущем. Пожалуй, я прощу его. Он сделал это лучше, чем смог бы кто-либо еще.
Вот с первых страниц смущает текст о том, как бородатый Вергилий поправляет на носу очки)) не было во времена Вергилия никаких очков. Но, вероятно, это не известно ни автору, ни редактору, ни переводчику. Прямо даже и не знаю: читать ли дальше или не стоит терять время...
Это не учебник истории, а скорее сборник эссе на тему чтения.
Очень много такого, что было логично, но о чем я никогда не задумывалась. Например, когда-то привычное нам чтение про себя и для себя было чем-то неприличным, прям целые трактаты писали о вреде подобного чтения.
А в Древнем Риме неприличным было молчать, пока оратор или чтец выступает, будто тебе совсем неинтересно. Орать и перебивать считалось вежливым, тем самым ты показываешь, как тебе интересно то, что говорит оратор.
В общем, мне понравилось.
История чтения выдалась сумбурная, неочевидная и очень личная, видимо, для самого автора. На мой взгляд, это довольно длинное эссе на тему, как чтение влияло на судьбы отдельно взятых людей. Это не безынтересно, но просто не зацепило. Всё полетело в одну корзину: публичные чтения, переводы, схоластика. Автор даже написал главу о чтении будущего, то есть о пророчествах и как к ним относились. Технически это не чтение, но мы это воспринимает как таковое, поэтому всё правильно. Чего же хотелось от книги? Большей конкретики, какой-никакой, но структуры, но факту этого не было. Отличный писатель, но почему же он решил всё это объединить под одной идеей? Вот написал бы отдельную книгу о запрещаемой литературе, о литературе в других жанрах искусства или о сложной судьбе Рильке, и эта книга читалась бы с пониманием, с вниманием и удовольствием. По крайней мере, своего читателя бы такое произведение нашло. А здесь получилось всё и сразу.
Альберто Мангель провел невероятную работу в изучении чтения как явления и процесса. Он изучил связь между возникновением слова и появлением книг, между книгопечатанием и обучением читать, между читателем и писателем.
Короткая рецензия
Сюжет  Слог автора
Слог автора  Польза
Польза  Скорость чтения
Скорость чтения  Количество цитат
Количество цитат 
Расширенная рецензия
Книга состоит из двух частей: 1. Процессы чтения - в ней мы знакомимся с зарождением этого явления и появлением первых адептов чтения. 2. Власть читателя - узнаем о читателях, как мы развивались, на что мог пойти читатель ради обожаемого чтения под страхом смерти или телесного наказания.
Через всю книгу красной нитью автор доносит до нас, что чтение это процесс, который остается с тобой навсегда после того, как ты научился читать. Чтение пытались запрещать, жгли книги, били рабов за стремление к чтению, но все равно мы тянемся за новой информацией снова и снова.
Во время чтения вы поймете, насколько близок вам по духу автор. Мы, заядлые книголюбы, читаем везде: в машине, на работе, украдкой под одеялом, когда все спят. Мы тяжело расстаемся с книгами и склоны их копить и копить, покупать новые, хотя на полках еще стоят начитанные экземпляры. Альберт Мангель точно такой же :) Только прочитайте цитату из книги и сразу услышите родственную душу
Стопку за стопкой складывая знакомы тома, я размышляю, как размышляю каждый раз, зачем хранить у себя столько книг, которые я совершенно точно никогда не буду перечитывать
Я наслаждаюсь зрелищем заставленных полок...Мне нравится находить в давно забытых томах следы того читателя, которым я был когда-то: каракули, автобусные билеты, полоски бумаги...
Что понравилось: сама суть книги, большое количество информации и отсылок. Автор явно провел хорошую исследовательскую работу для данной книги. Фактчекинг не проводила, поэтому не могу отвечать за достоверность абсолютно всего. Но общая история развития чтения описана крайне увлекательно, хоть тяжелова-то. Почему?
Что не понравилось: огромное количество отсылок к великим умам разных лет. Да, в какой-то мере в этом и прелесть, но мне было сложно читать все эти отсылки, когда ты не понимаешь, о ком идет речь особенно в первой части. Чтобы полностью насладиться книгой нужно быть неплохо подкованным в истории древней Греции и не только. Сам язык повествования достаточно сложный. Причем, когда автор пишет от своего лица, свой опыт, то все хорошо, но когда обращается к истории (а вся эта книга и есть история), то мозг немного взрывается от слога.
Несмотря на сложности, однозначно История чтения останется на моей полке, там появились любимые цитаты и даже несколько заделов для дальнейшего чтения.
Чтение — процесс, который стал уже самым привычным делом. Мы читаем всё подряд: от рекламных надписей, которые нас окружают, и до серьёзных научных книг. А вы хоть раз задумывались, что когда-то было не так? Что чтения для удовольствия когда-то просто не существовало, а читать "про себя" было чем-то необычным. Представляете библиотеку, где все читают вслух?
Все мы по-разному воспринимаем прочитанное, ведь это мы сами отражаемся в каждом тексте. Но, что удивительно, на восприятие книги может повлиять даже сам процесс чтения.
Читать в темноте, лишь при свете лампы, чтобы ничего не отвлекало или лёжа в кровати, сидя за столом или даже в туалете, последняя привычка намного древнее, чем кажется, как оказалось :) Читать про себя или же вслух, делать заметки, возвращаться и перечитывать какие-то фрагменты. В общем, в чтении всё очень индивидуально. Но на отношение к книгам и чтению влияет ещё и общественное мнение, цензура, прогресс.
Эта книга богата на исторические события, факты, рассказы о некоторых писателях. Как читали на протяжении веков, как появились книги, как менялся их формат и отношение к ним. Читается очень легко, это не сухой учебник. Поистине великий труд собрать всю эту информацию под одной обложкой!
И я думаю, что после её прочтения, список произведений, которые хочется прочитать, очень сильно увеличится :)
«Я сумел обратить простые линии в живую реальность и стал всемогущим. Я научился читать».
Задумывались ли вы когда-нибудь как именно пришли к чтению. Я не говорю о том, в каком возрасте научились читать или кто и как вас этому учил. Я о том, какая именно фраза оказалась первой которую вы прочитали. Не “мама мыла раму”, а что-то более осмысленное, что-то, что позволило вам с гордостью подумать - Вот он я, человек читающий! Я не помню. Я помню только то, что читать начала рано.И влипла в это глубокого и надолго.
А еще я никогда не задумывалась о том моменте, когда вдруг поняла, что читать не обязательно вслух. Именно с этого и начинается история Мангеля о чтении. С того что было в начале. И что все же важнее “чтение” или “письмо”.
Альберто Мангель, канадский автор аргентинского происхождения, описал свой личный путь к чтению в этой книге. Помимо этого в книге есть несколько интересных( местами забавных) историй так или иначе связанных с чтением других людей. И с самим процессом. Он изучает то, как мы пришли к такому чтению, какое оно сейчас есть.
Начиная читать стоит понимать, что тема очень замкнута в себе. Поэтому спустя какое-то время читать ее становится скучно. Потому что это будто переливание “из пустого в порожнее”. Но это ни в коем случае не упрек, потому что не так уж много можно сказать о том, как, зачем, почему человек читает. И при этом не повторяться. Помимо прочего она не является цельным произведением, а будто бы состоит из лоскутков, от многих из них можно даже отказаться, без большого вреда.
Понравилась ли мне книга? Местами да, местами не очень, как и бывает с любой литературой. Но есть в ней крупицы, благодаря которым она на какое-то время мне запомнится.
Говорят, что нам сегодняшним читателям, грозит вымирание, и потому мы должны, наконец, узнать, что же такое чтение.
Автор рассказывает, как он учился читать, как хотел жить среди книг. Эта книга была путешествием по историческим местам от Вавилонской башни к Эйфелевой башне; путешествием с историческими личностями от чернокожих рабов до господ и царей. Везде описанных героев окружали книги, у всех они были разные: глиняные таблички, папирус, свитки, первая печатная Библия, компьютер. И кто бы они ни были – бедняки, цари, пророки – они все тянулись к знаниям и любили читать. Чтение – это общий для всех и в то же время очень личный процесс. Средневековые ученые могли рассчитывать только на собственную память о прочитанных книгах, они хранили знания в своих головах. А мы, современные люди полагаемся на свои компьютеры, которые могут найти нужную нам информацию в любое время и в любом месте. Через книги мы получаем доступ к общей памяти и знакомимся с общим прошлым. Чтение не может быть конечным, т. к. можно бесконечно много раз читать один и тот же текст и каждое новое прочтение "будет питаться предыдущим". В чтении не бывает "последнего слова". Над одной и той же страницей один читатель будет смеяться, а другой плакать, поэтому никакой авторитет не сможет настоять на "правильном прочтении". В тексте, который мы читаем, отражается и наша жизнь, тень того, кто мы такие. А «мы – это то, что мы читаем». // Вот после этих слов мне сразу легче на душе стало. Теперь я не буду так сильно переживать, что я не увидела в тексте того, что увидели другие читатели. Отдельным эшелоном в книге двигались писатели и переводчики, а потом всё закольцевалось:
писатели создают читателей, а те в свою очередь производят на свет новых писателей.
Мне так понравилась мысль автора о разделении книг на полках по принципу вряд ли буду читать - прочитала, читаю – надеюсь прочитать в будущем, что я запланировала расставить свои 800 томов по этому принципу. Вдруг это будет стимул больше читать книг, которые есть в моей библиотеке, а не скачивать новые?! Книга написана доступно, информативно и в то же время заставляет задуматься. Я сделала ещё один шажок к пониманию того кто же мы такие – читатели.
У истории чтения, к счастью, нет конца
. Играю от А до Я. Тур 2020.
Аист Марабу, выведи нас на тропу Мимо поля конопли, ближе к солнечному теплу Может что-то стрельнет во лбу, но в сердце всажен гарпун В тихих джунглях поутру мы с братьями устроим пальбу Аист Марабу...(с)
Данная книга в какой раз демонстрирует силу чтения. Что это на самом деле не просто монотонный процесс, даже не просто наркотик, а истинное волшебство. И это не перестаёт воодушевлять.
После прочтения этой non-fiction книги так и хочется взять и окунуться в какую-нибудь новую захватывающую художественную историю. Окунуться с головой в этот бурлящий поток букв, образующих многогранную картину эмоций, чувств, смыслов, мыслей, рассуждений и всего-всего. Чтобы унесло в новый мир. Уже думаю вот, в какой поток прыгать... Вообще, затронуты самые различные аспекты и стороны чтения, раскрытые (словно книга) довольно объёмно, доходчиво и не скучно. Часто простым языком о сложном. Гармония фактов, рассуждений, исторических сведений, авторских впечатлений и догадок, воспоминаний, а также различных заметок. Выходит очень вкусно и сбалансированно.
Я действительно рад, что почерпнул для себя что-то новое. Думал, что оно после прочтения тут же вылетит из головы, но благодаря подаче оно не просто откладывается в голове, а ты сам намеренно раскладываешь это всё по нужным полочкам. Круто.
Из минусов — есть лёгкий и не очень хороший сумбур. Бывают довольно резкие скачки там, где хотелось бы плавного перехода. Больше бы упорядоченности. В этом, думаю, основной недочёт книги.
В целом же я остался доволен. Если честно, малость боялся унылой нудятины, но, благо, это ожидание нисколько не оправдалось. Было и познавательно, и увлекательно. Положу эту книгу на полку понравившихся и пойду проживать очередную новую жизнь.
Занимательная 4 из 5.