Россия в Центральной Азии. Бухарский эмират и Хивинское ханство при власти императоров и большевиков. 1865–1924
Text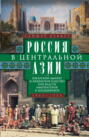


Go to audiobook
- Size: 450 pp. 2 illustrations
- Genre: Military, intelligence, Foreign journalism, popular history
В 1872 году было наложено первое ограничение на суверенное право эмира поддерживать отношения с другими государствами, кроме России. Мирный договор 1868 года никак не ограничивал этого права. Музаффар продолжал обмениваться посланиями с Хивой, Афганистаном и Османской империей. Но когда весной 1872 года бухарский посол явился в Константинополь в поисках турецкой и британской помощи против России, Ташкент возмутился. Впоследствии Музаффар согласился отказаться от своего права напрямую контактировать с Портой без предварительного уведомления генерал-губернатора Туркестана. Но на этом проблемы, видимо, не закончились, поскольку в январе 1873 года посол России в Константинополе жаловался по поводу действий другого посланца из Бухары.
Вопрос о заключении нового договора
Результаты первых четырех с половиной лет зависимости Бухары от России оказались для генерала фон Кауфмана несколько разочаровывающими. Между Бухарой и Ташкентом то и дело возникали трения. Музаффар заигрывал с антирусскими правителями Афганистана, Хивы и Турции; его правительство пыталось скрыть продолжающуюся работорговлю; поддержание взаимоотношений с помощью спорадических миссий оказалось неудовлетворительным; русская торговля в Бухаре расширялась недостаточно активно.
Короче говоря, из-за российской политики невмешательства во внутренние дела ханств и крайнего нежелания возлагать на империю дополнительное бремя, политическое и экономическое господство России над Бухарой оказалось далеко не полным.
Уже в 1871 году Кауфман предлагал дополнить несовершенные договоренности 1868 года новым, куда более обязывающим договором. Предложение генерал-губернатора должно было: 1) сделать более определенной существующую русско-бухарскую границу, оставляя Заравшанский округ за русскими; 2) разместить в Бухаре русского торгового представителя, а в Ташкенте – постоянного представителя эмира; 3) отрегулировать выдачу коммерческих виз и паспортов; 4) обеспечить русским подданным в Бухаре право заключать разнообразные сделки и использовать природные ресурсы страны; 5) сделать обязательным выдачу беглых преступников; 6) установить регламент ведения судебных процессов между русскими и бухарцами. Кроме того, Кауфман предложил секретное дополнение к новому договору, которое обязывало эмира: 7) следовать предписаниям русского правительства при ведении дел с другими соседями ханства; 8) следовать советам генерал-губернатора Туркестана при назначении кушбеги и беков в провинциях, граничащих с Россией; 9) не предоставлять судам Афганистана и других иностранных держав права прохода по Амударье; 10) дать России право иметь пароходные пристани на бухарских берегах Амударьи. Со своей стороны, оно обязывало генерал-губернатора: 11) помогать эмиру в борьбе с внутренними и внешними врагами в случаях, если сама Бухара не является агрессором; 12) гарантировать владениям эмира существующие границы; 13) ходатайствовать перед императором о признании наследником эмира того из его сыновей, кого назначит Музаффар, и о гарантиях того, что к нему перейдут владения его отца (беглый Абдул-Малик был бы навсегда лишен права наследования). Наконец, 14) оно обязывало Музаффара в качестве любезности императору запретить работорговлю и принять шаги к постепенному запрету рабства как такового. Предложенное Кауфманом секретное соглашение резко ограничивало суверенитет эмира Бухары и делало его де-юре вассалом Российской империи. Его лишили бы контроля над международными делами Бухары, права делать важные назначения, распоряжаться собственной территорией, а Россия получила бы право голоса при назначении его преемника.
Предложения генерал-губернатора абсолютно не пришлись по вкусу Петербургу. На заседании правительства, прошедшем в столице 4 ноября 1872 года, наиболее радикальные статьи были отвергнуты, а остальные приняты, но только в смягченном виде. Кауфману велели: 1) установить в Заравшанском округе такую же систему управления и налогообложения, как в остальной части русского Туркестана (до сих пор в Самарканде сохранялась старая бухарская административная система), но не делать публичных заявлений об аннексии Заравшанского округа; 2) дать ясно понять эмиру, что Россия намеревается действовать как добрый сосед и не собирается аннексировать или подчинять его страну, хотя русское влияние в ханстве продолжит превалировать; 3) при благоприятных обстоятельствах заключить с эмиром новый договор, включающий в себя размещение в бухарских городах русских торговых агентов и постоянного представителя Бухары в Ташкенте, а также подготовку подробных правил ведения торговли, занятия ремеслами, заключения сделок, выдачу паспортов и передачу беглых преступников; 4) отказаться от идеи заключения секретного соглашения. Если эмир согласен, то в новый договор можно будет включить обязательство прекратить работорговлю. Советы, касающиеся международных дел эмира и назначений на важные должности людей, выгодных России, могут передаваться эмиру неофициально генерал-губернатором. А если бы эмир сам обратился с соответствующей просьбой, Петербург не будет против признания наследником одного из его сыновей.
Петербург, как всегда, заботился о том, чтобы не зайти в Центральной Азии слишком далеко и слишком быстро, опасаясь перенапрячь финансовые или военные возможности России или спровоцировать Британию на открытое противостояние. В то время позиция Британии была особенно важна, поскольку продолжавшиеся более трех с половиной лет переговоры между Британией и Россией, преследовавшие цель разрядки отношений в Центральной Азии, приближались к успешному завершению. Кроме того, Россия стояла на пороге отправки новой экспедиции против враждебно настроенного Хивинского ханства, для успеха которой имел существенное значение нейтралитет Британии. В результате заключение нового договора с Бухарой пришлось отложить до решения вопроса с Хивой.
Англо-русские переговоры, 1869–1873 гг
До 1869 года британский Кабинет министров не проявлял большой озабоченности продвижением русских войск и русского влияния в Центральной Азии. После неудачной попытки Британии в 1836–1841 годах навязать Афганистану вассальную зависимость Лондон перешел к политике невмешательства на территориях, расположенных за пределами долины Инда. Сэр Джон Лоуренс, вице-король Индии с 1864 года и ярый сторонник политики невмешательства, за время с 1864 по 1867 год несколько раз отказывал Худо-яру и Музаффару в их просьбах о помощи в борьбе против русских. Политика Лондона и Калькутты основывалась на том, что Афганистан должен оставаться независимым буферным государством, дружественным по отношению к Британии и удерживающим Россию на безопасном расстоянии от границ Индии. Однако после смерти в 1863 году эмира Дост Мухаммада его сыновья яростно стали бороться за наследство, что вскоре стало угрожать целостности Афганистана и вызвало вероятность русского вмешательства. В результате нараставшего паралича афганской государственной власти и продвижения России в направлении Амударьи в Лондоне завязалась борьба между сторонниками политики, проводимой Лоуренсом и министром по делам Индии сэром Стаффордом Норткотом, и сторонниками «перспективной политики» во главе с сэром Генри Роулинсоном и другими выдающимися ветеранами службы в Индии. В своей нашумевшей статье в «Квортерли ревью» за октябрь 1865 года Роулинсон утверждал, что, если возникнет необходимость защиты Индии от приближения русских, Британия должна иметь полную свободу действий для наступления на Кандагар и Герат в Афганистане. После восстановления в 1868 году Совета государственного секретаря по Индии, не собиравшегося в течение девяти лет, Роулинсон пошел дальше. В своем официальном меморандуме он открыто потребовал отказа от традиционной политики «мастерского бездействия» и установления над Афганистаном британского «квазипротектората».
Отчасти чтобы защитить политику правительства, Лоуренс в сентябре 1867 года предложил разделить Центральную Азию на английскую и русскую сферы влияния. Таким образом, Британия могла бы без опасений относиться к расширению влияния России в Бухаре и Коканде и даже приветствовать «цивилизационный эффект» такого влияния. Несмотря на то что Норткот отверг предложение Лоуренса, как бесполезное, а премьер-министр лорд Дерби сомневался, можно ли полагаться на какое-либо взаимопонимание с Россией, вице-король вернулся к своему предложению в ноябре 1868 года, после окончательной победы России над Бухарой и получения агрессивного меморандума Роулинсона, который Норткот переслал в Калькутту. 4 января 1869 года правительство Индии официально отвергло предложения Роулинсона, предпочтя им «некоторое ясное взаимопонимание» с Россией, с помощью которого последней «можно было дать понять в твердой, но вежливой форме, что ей не разрешат вмешиваться в дела Афганистана или какого-либо другого государства, граничащего с нами». Гладстон, первый министерский срок которого начался в декабре 1868 года, поддержал Лоуренса авторитетом британского правительства и утвердил его политику. Однако вместо того, чтобы настаивать на разделении Центральной Азии на сферы влияния, министр иностранных дел в правительстве Гладстона граф Кларендон в феврале 1869 года предложил русскому послу в Лондоне барону Ф.И. Бруннову определить «нейтральную территорию» между владениями России и Британии. Князь Горчаков поддержал эту идею (которая впервые была предложена британцам в 1844 году его предшественником графом Нессельроде) и предложил на роль такой «независимой зоны» Афганистан, заявив, что Россия рассматривает эту страну «как находящуюся полностью за пределами сферы, внутри которой России может потребоваться распространить свое влияние». Именно так Горчакову представлялась нейтральная зона за пределами русской сферы влияния.
Лондон, конечно, не мог согласиться на нейтральный статус Афганистана. В апреле 1869 года под давлением индийского правительства (здесь и далее под «индийским правительством» автор подразумевает англо-индийскую администрацию. – Пер.) Кларендон отверг предложение Горчакова и предложил, «чтобы верхний Оксус (Амударья), находящийся южнее Бухары, стал пограничной линией, которую не могли бы пересекать военные силы ни одной из двух держав». Это выглядело как возвращение к первоначальному предложению Лоуренса о разграничении сфер влияния, но Кларендон все еще мыслил в терминах нейтральной зоны. Он указал, что эта линия по верхней Амударье «предположительно пройдет по большому участку пустынной земли, ранее отмеченному на карте как владение хана Хивы, находящемуся между Афганистаном и территорией, которой уже овладела Россия». России разрешалось бы переходить Амударью в случае необходимости проведения карательной экспедиции против Хивы, но только при условии, что после этого она снова отойдет на правый берег реки. Таким образом, две разные концепции – концепция нейтральной зоны и концепция демаркации сфер влияния – оказались смешаны друг с другом. Кларендон думал о нейтральной зоне между Гиндукушем, который он считал северной границей Афганистана, и Амударьей, но в то же время предполагал, что эта река будет «пограничной линией» между британской и русской сферами влияния. Министры иностранных дел встретились 2 сентября в Гейдельберге, но не добились прогресса. Когда Кларендон повторил свое предложение, указывая, что Амударья – это «наиболее предпочтительная демаркационная линия для обозначения нейтральной территории между русскими и британскими владениями», Горчаков возразил, снова предложив нейтральный статус всего Афганистана.
Тем временем граф Мэйо, который в 1869 году стал преемником Лоуренса, продолжал из Калькутты настаивать на разделении Центральной Азии на зоны влияния. 3 июня он предложил, чтобы вместо нейтральной зоны между Индией и Россией был обозначен «широкий пояс независимых государств». Афганистан, Кашгар и Калат вошли бы в британскую сферу влияния; Хива, Бухара и Коканд стали бы такой же сферой для России. Две великие державы были бы связаны между собой «взаимными обязательствами невмешательства» в сферы влияния друг друга. Чтобы подтолкнуть переговоры к соглашению на этой основе, Мэйо отправил Т. Дугласа Форсайта через Лондон в Петербург, куда Форсайт прибыл в октябре.
Форсайт успешно направил переговоры на обсуждение британской и российской ответственности за поддержание мира на двух сторонах от Амударьи в соответствии с их сферами влияния. Еще 2 июня Горчаков просил Британию использовать свое влияние на Кабул для предотвращения его возможного нападения на Бухару, на что Лондон впоследствии согласился. 1 ноября Милютин и Стремоухов приняли контрпредложение Форсайта, что «Россия должна употребить все свое влияние, чтобы удержать Бухару от нападения на афганские территории», тогда как Британия использует свое влияние, чтобы не допустить нападения Афганистана на Бухару. Чтобы установить границы российской власти внутри ее сферы влияния, Милютин и Стремоухов поинтересовались, будет ли оккупация Бухары русскими, если таковая потребуется, «рассматриваться как нарушение взаимных договоренностей между Россией и Англией». Форсайт выразил свое личное мнение, что «до тех пор, пока будет сохраняться целостность Афганистана, не будет возникать никаких возражений против наказания, или даже – если это, действительно, потребуется – оккупации этой страны в целом или ее части». Таким образом, Россия, а также, очевидно, и Британия будут иметь полную свободу действий внутри своей сферы влияния. Лондон не стал опровергать интерпретацию Форсайта, а Мэйо выразил глубокое удовлетворение работой своего заместителя. 5 ноября император согласился с Форсайтом, что Россия и Британия, которых Милютин и Стремоухов именовали «патронами», или «протекторами», Бухары и Афганистана соответственно, должны удерживать своих клиентов от агрессии. Однако Александр II закрепил путаницу, сообщив Форсайту, что одобряет концепцию «нейтральной зоны».
На самом деле концепции нейтральной зоны и сфер влияния были бы совместимы при наличии нейтральной зоны между сферами влияния. Однако в ноябре 1869 года Лондон и Калькутта исключили возможность создания нейтральной зоны. Убедившись, что эмир Шир-Али уверенно контролирует афганский Туркестан до самой Амударьи, они отказались от первоначальной идеи Кларендона и объявили Амударью северной границей Афганистана, как это было в последние годы правления Дост Мухаммада. В феврале 1870 года британский посол в Петербурге сэр Эндрю Бьюкенен предложил Горчакову и Стремоухову, чтобы Россия последовала политике, похожей на политику Калькутты, по созданию на русской границе «ряда находящихся под ее влиянием, но не подчиненных, или нейтральных, государств». Когда в ноябре 1872 года русский товарищ министра иностранных дел Вестман снова вернулся к идее нейтральной зоны, преемник Бьюкенена лорд Август Лофтус ответил: «Термин „нейтральная зона“… относится только к независимым государствам, расположенным между [южной] границей Афганистана и границей России, и этой роли отлично соответствует Бухара на севере и даже, пожалуй, Афганистан к югу от Оксуса». Поскольку лорд Гранвиль, который после смерти Кларендона в 1870 году занял пост министра иностранных дел, однозначно подтвердил слова Лофтуса, они могли считаться официальной точкой зрения Британии по этому вопросу. По мнению Лондона, нейтральная зона в действительности не являлась нейтральной, а состояла из британской и русской сфер влияния по обе стороны Амударьи.
Россия, со своей стороны, в течение трех лет отказывалась признавать Амударью северной границей Афганистана, настаивая, что Бадахшан, расположенный к югу от верховий этой реки, вместе с зависимым от него Ваханом является независимым государством, более того, государством, сохранение которого в качестве буфера жизненно важно для безопасности Бухары, Коканда и Кашгара. Бадахшан, подобно клинку, врезался в земли на правом берегу реки. Принадлежность этого стратегического клина к Афганистану создала бы особую опасность Бухаре, недавно получившей контроль над Кулябом, бежавший бек которого жил при дворе афганского эмира. Отказываясь признавать Амударью по всей длине границей Афганистана, Петербург фактически добивался создания нейтральной зоны, пусть даже ограниченной горным регионом, удаленным от основных дорог, соединявших Афганистан и Бухару. Настойчивость России в отношении этого, казалось бы, мелкого пункта была, без сомнения, тактическим ходом с целью избежать обязывающего урегулирования в Центральной Азии, пока Россия не решит своих проблем с Хивой. Подписание соглашения с Британией, пока Хива остается враждебной, могло ограничить свободу России в ее действиях в отношении хивинского хана. В апреле 1869 года Кларендон посчитал, что договоренность запрещает России иметь любой постоянный плацдарм на левобережных землях Амударьи, принадлежащих Хиве. Предложение Мэйо от июня 1869 года, согласно которому Хива отходила к сфере влияния России, что в большей степени соответствовало интересам русских, так никогда и не было передано Петербургу в качестве официального. Таким образом, если бы договоренность по Центральной Азии была достигнута, пока не решен вопрос с Хивой, Россия могла многое потерять и ничего не получить, кроме признания Британией уже полученных русскими территориальных приобретений.
Британия, которая инициировала эти переговоры из-за беспокойства о приближении русских к Индии, в конце концов довела их до успешного завершения. В сентябре 1872 года лорд Гранвиль справедливо предположил, что Петербург был бы готов заручиться благожелательным отношением Британии во время предстоящей кампании против Хивы, согласившись определить афганскую границу на условиях Лондона. Несмотря на то что поначалу Горчаков снова представил свои возражения в отношении признания афганского суверенитета над Бадахшаном и Ваханом и снова предложил считать нейтральной зоной весь Афганстан, он довольно быстро уступил после того, как Россия приняла решение атаковать Хиву. 31 января 1873 года Горчаков признал афганскую границу в соответствии с заявлением Великобритании и пониманием, что Британия «употребит все свое влияние», чтобы убедить Кабул поддерживать мир и воздерживаться от дальнейших завоеваний. В действительности возможность создания нейтральной зоны была отвергнута в пользу граничащих друг с другом сфер влияния, хотя в течение следующих нескольких лет Россия заявляла, что договоренность 1873 года создала в Афганистане промежуточную нейтральную зону. Только в феврале 1876 года, когда Петербург стал опасаться реакции Британии на его действия против Коканда, он наконец согласился с мнением Лондона, что Афганистан – это часть британской зоны влияния, как Бухара – российской.
Англо-русские переговоры 1869–1873 годов завершились соглашением о границе между Бухарой и Афганистаном и договоренностью, что обе державы употребят свое влияние – Россия на Бухару, Британия на Афганистан, – чтобы защитить эту границу от нарушений с обеих сторон. На практике каждая из держав признала, что сфера влияния другой начинается от противоположного берега Амударьи. Таким образом, Британия получила от России обещание не переходить афганскую границу, в то время как Россия обеспечила признание своего влияния в Бухаре и косвенно в Коканде от единственной империалистической державы, имевшей свои интересы в Центральной Азии.
Глава 4
Покорение Хивы и договоры 1873 года
Установление отношения с Хивой, 1867–1872 гг
Хива традиционно являлась самым проблемным соседом России в Центральной Азии. Как только удалось подчинить Бухару и Коканд, стало ясно, что неотвратимо выяснение отношений с Хивой. Постоянные сложности были неизбежны хотя бы из-за полного отсутствия каких-либо признанных обеими сторонами границ между Хивой и Российской империей. Еще одной причиной проблем была сильная оборонительная позиция Хивы, превращавшая ее в неприступный остров в океане пустынь, и две предыдущие неудачи в попытке подчинить ее, несомненно, укрепили хана Мухаммада Рахима II (1864–1910) в его упрямом отказе подчиняться требованиям русских.
Непосредственным результатом продвижения России вверх по Сырдарье и последующих военных столкновений с Кокандом и Бухарой стало временное улучшение русско-хивинских отношений. Хива отстранилась от раздоров ее соседей с Россией, в то время как ее купцы выиграли от приостановки прямой торговли между Бухарой и Россией. Когда русский экспорт в Бухару упал в стоимостном выражении с 4 655 000 рублей в 1864 году до 877 000 рублей в 1866-м, ее экспорт в Хиву за тот же период вырос с 11 000 до 1 565 000 рублей. Однако в 1867 году после возобновления торговли между Россией и Бухарой российский экспорт в Бухару вернулся к прежнему уровню, в то время как экспорт в Хиву упал больше чем на две трети. Тогда Хива возобновила свою традиционную практику набегов на русскую границу, ограбления караванов, участвующих в торговле с русскими, и разжигания проблем России с ее казахскими подданными.
19 ноября 1867 года генерал фон Кауфман в своем первом письме хану Хивы объявил, что русские войска были посланы в низовья Сырдарьи, чтобы наказать грабителей, нападающих на русские караваны. В феврале следующего года кушбеги, правивший северной половиной ханства, выразил протест в связи с тем, что русские перешли Сырдарью, которую он объявил российско-хивинской границей. Вопрос остался нерешенным, поскольку Россия была не готова переключить свое внимание на Хиву, пока Бухара продолжала проявлять открытую враждебность.
1869 год стал годом подготовки. Отношения с Бухарой еще не были полностью улажены так, как хотела Россия, и это практически не оставляло возможностей для развертывания нового военного конфликта. Внимание России было сосредоточено на Красноводском заливе у восточного побережья Каспийского моря, где правительство империи еще в начале 1859 года одобрило создание укрепленного торгового форпоста. В январе 1865 года специальный правительственный комитет снова рекомендовал строительство такого форпоста, чтобы положить конец туркменским грабежам на суше и на море и организовать торговлю с Центральной Азией по новому, более короткому маршруту через Волгу, Каспийское море и Красноводский залив. В то время как путешествие из Оренбурга в Хиву караваном занимало 65 дней, через Красноводский залив оно продлилось бы всего 25. Решение вопроса пришлось отложить, пока шла война с Бухарой, но в мае 1869 года Общество для содействия развитию русской промышленности и торговли подало правительству прошение об открытии торгового пути из Каспия в Амударью. Общество утверждало, что только сокращение торгового пути и снижение транспортных расходов позволит русским товарам конкурировать в Центральной Азии с товарами из Англии.
Генерал фон Кауфман одобрял красноводский проект по другим причинам. Хива становилась все более и более несговорчивой. Одновременно с этим ее правительство подстрекало обитавшее между Каспийским и Аральским морями казахское племя адаев поднять восстание против России. Кроме того, Хива утверждала, что ее граница проходит по реке Эмба, и временами даже – что по реке Урал. Весной 1869 года Кауфман изложил свое мнение директору Азиатского департамента Министерства иностранных дел П.Н. Стремоухову: «Высадка в Красноводском заливе покажет хивинцам и киргизам (казахам), что Его Величество решил остановить распространение бунта… и что, если Хива будет упрямиться, ее раздавят. Я думаю, хан не станет прислушиваться к моим советам, пока не увидит, что принимаются меры для его наказания». 31 мая Стремоухов возразил против такой интерпретации Кауфманом правительственных планов по Красноводскому заливу, настаивая, что Россия решила всего лишь создать укрепленную факторию – «станцию для нашей эскадры, а главное, для развития нашей торговли». Стремоухов подчеркнул, что никакой войны против Хивы не планируется: «Я уверен, что не возникнет никакой необходимости в иностранных военных экспедициях, смею заметить, что правительство должно как можно скорее предпринять все возможные усилия для подавления беспорядков в степи». Характерно, что Петербург и Ташкент смотрели на красноводский проект по-разному. Министерство иностранных дел, как обычно, хотело верить в перспективу мирного контроля над Хивой, тогда как генерал-губернатор возлагал свои надежды на военную акцию.
12 августа 1869 года Кауфман написал Мухаммаду Рахиму, обвиняя его в подстрекательстве к беспорядкам кочевых подданных России, что он допускал удержание русских в Хиве в качестве пленников и что предоставлял убежище бунтовщикам и грабителям, бежавшим с территории России. Кауфман требовал прекратить эти действия и наказать виновных, предупреждая, что «аналогичные действия имели место со стороны Коканда и Бухары, и их последствия вам хорошо известны». 20 сентября он снова потребовал наказания грабителей и возвращения украденной ими собственности, а также освобождения всех русских и бухарских пленных, удерживаемых в Хиве.
10 октября военный министр Д.А. Милютин ответил Обществу для содействия русской промышленности и торговли, что он полностью поддерживает их проект по открытию торгового пути через Красноводский залив. Как и Кауфман, Милютин был, несомненно, заинтересован в политическом и военном, а не только коммерческом аспекте этого проекта. 14 октября Стремоухов сообщил Кауфману, что Александр II приказал взять Красноводск в течение месяца. В то же время Стремоухов заметил, что создание русского форпоста в Красноводске вызовет «огромные неудобства» в сфере дипломатии. Он считал, что эти действия были бы полезны «только если они послужат развитию нашей торговли и покорению Хивы в той же степени, как Коканда и Бухара, но, упаси Бог, если это станет шагом к новым завоеваниям». Министерство иностранных дел по-прежнему надеялось, что оккупации побережья Красноводского залива будет достаточно, чтобы напугать Хиву и заставить ее согласиться с зависимостью от России. Однако подчинение Хивы обошлось русским не так дешево.
5 ноября отряд, прибывший с Кавказа, ступил на побережье Красноводского залива. Спустя два дня генерал-губернатор Оренбурга Н.А. Крыжановский направил военному министру копии прокламаций Мухаммада Рахима, призывавших адаевских казахов к восстанию. Крыжановский утверждал, что «такого рода действия не должны оставаться безнаказанными». Он предполагал, что, «если это согласуется с другими целями правительства», Россия «может, воспользовавшись этими фактическими доказательствами враждебных действий хивинского хана, взять города Кунграт и Хива и уничтожить Хивинское ханство». В то же время Крыжановский указывал на недостатки такого рода действий, в особенности на финансовое бремя, связанное с управлением этой весьма неплодородной провинции. 13 декабря он отметил, что безопасность предлагаемого торгового пути из Красноводска до Амударьи не может быть гарантирована без завоевания Хивы, и Милютин с этим согласился.
Аргументы в пользу проведения кампании против Хивы множились. Уже в октябре и ноябре 1869 года совместная русско-бухарская пограничная комиссия провела разграничение участка границы по пустыне Кызылкум с востока на запад вдоль линии параллельной, но проходящей южнее дороги из Джизака к Буканским горам, что позволяло России использовать эту дорогу в будущей кампании против Хивы.
Не получив ответа на свои письма, отосланные в августе и сентябре, генерал фон Кауфман снова написал Мухаммаду Рахиму 18 января 1870 года, поясняя, что база в Красноводске должна будет служить складом для товаров и защищать караваны от нападений туркмен. Кауфман предупреждал хана, что Хива должна выбирать между дружбой и враждой с Россией, и настаивал на удовлетворении всех требований русских, включая свободный доступ в ханство для русских торговцев. Генерал-губернатор заканчивал на угрожающей ноте: «Всякое терпение имеет предел, и, если я не получу удовлетворительного ответа, я [приду и] возьму его». В тот же день Кауфман поделился со Стремоуховым, что, если хан согласится на его требования, «мы по-прежнему сможем надеяться сохранить статус-кво еще на какое-то время». Однако Кауфман добавил: «Я совершенно уверен, что рано или поздно мы не сможем избежать столкновения с этим ханством».
Тем временем появление русских в Красноводске, на земле, которую Хива считала своей, вызвало в ханстве большую тревогу. Была проведена подготовка к обороне. Некоторое воодушевление вселило письмо от эмира Бухары, который в неопределенных выражениях обещал, когда придет время, возобновить борьбу против неверных. Ответ Хивы на требования России во многом определялся внутренней ситуацией в ханстве. Мухаммад Рахим был обходительным молодым – около 25 лет – человеком с легким характером. Государственные дела он обычно оставлял решать своим советникам, главным из которых был диванбеги Мухаммад Мурад, настроенный откровенно против России. В феврале 1870 года Мурад ответил на августовское письмо Кауфмана, в то время как кушбеги ответил на его сентябрьское письмо.
Оба ответа были отрицательными, поскольку оба отрицали обвинения русских и утверждали, что границей Хивы является Сырдарья. В марте Кауфман написал диванбеги, сетуя, что хан отказывается вступать с ним в прямые переговоры, и повторил свои требования. В апреле кушбеги ответил на письмо Кауфмана от 18 января, категорически возражая против оккупации Красноводска русскими, и предупредил, что Хива готова оказать сопротивление России. Кауфман отреагировал, предложив Милютину атаковать Хиву одновременно с территории русского Туркестана и с Кавказа.
Теперь Министерство иностранных дел было готово признать необходимость более жестких действий в отношении Хивы, хотя и не считало это проблемой первостепенного значения. В марте Стремоухов согласился, что дипломатия оказалась не способна убедить Мухаммада Рахима: «Конечно, Хива не избежит своей судьбы (надеюсь, не аннексии, а подчинения), но сейчас едва ли было бы своевременно направлять наши войска против этой страны». Стремоухов считал развитие торговли с Центральной Азией, улучшение отношений с туркменами и консолидацию власти в Туркестанском генерал-губернаторстве более неотложными делами, чем Хивинская кампания.
В январе 1871 года военный министр согласился с министром иностранных дел, что, хотя решительные действия против Хивы необходимы, время еще не пришло. Весной план Кауфмана по проведению кампании против Хивы получил принципиальное одобрение императора, но его исполнение было отложено на неопределенное время в связи с обеспокоенностью России по поводу событий в Синьцзяне. С 1863 года эта самая западная провинция Китая являлась сценой крупного мусульманского восстания, в ходе которого бывший кокандский чиновник Якуб-бек отхватил себе царство со столицей в Кашгаре. Якуб-бек, правивший с 1867 по 1877 год, проводил полностью пробританскую политику. В начале 1871 года ситуация дошла до критической точки: Якуб-бек становился все более враждебным по отношению к России, а его северный сосед, султан Кулджи, давал приют бежавшим из России казахам.
