История русской армии. Cлавные военные традиции российских и советских полководцев
Text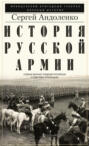


Go to audiobook
- Size: 630 pp. 20 illustrations
- Genre: Biographies and memoirs, Military, intelligence, Foreign journalism
Великие полководцы екатерининского времени
Румянцев-Задунайский[29]
Родился в 1725 г. и являлся незаконнорожденным сыном Петра Великого. Унаследовав его страсть к военному делу и полководческий талант, он занимает одно из ведущих мест среди великих русских полководцев.
Подпоручик в пятнадцать лет, капитан в восемнадцать, он становится полковником в девятнадцать. Его юность проходит в походах. Участвует в войне со Швецией, но особенно отличается в военном противостоянии с Пруссией. Командуя дивизией, он внес решающий вклад в победы при Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе, а также отличился во время осады и взятия Кольберга. Будучи главнокомандующим во время первой Русско-турецкой войны в царствование Екатерины II, генерал одерживает классические победы при Ларге и Кагуле. Со временем он становится крупным военным теоретиком и опытным администратором, что не мешает ему прежде всего быть военачальником. Его авторитет в армии Екатерины непререкаем. «Румянцева невозможно превзойти, – говорит Суворов, – я всего лишь его ученик». Солдаты относятся к генералу как к своему. «Ты настоящий солдат, настоящий товарищ», – говорят они ему. «Наделенный организованным и быстрым умом, Румянцев соединяет хладнокровие с решительностью. Его мнения обладают замечательной ясностью, его мысли четкие и позитивные. Ему неведомы колебания. Его работоспособность огромна. Галопируя целый день перед своими войсками, он может затем провести всю ночь за работой» (Богданович). Во всех областях военной науки Румянцев оставляет свой позитивный след. Принципы, которые он отстаивает, применимы повсеместно и при любых обстоятельствах. «Его заметки, инструкции и проекты заметно повлияли на развитие русской военной мысли. Его мысли об обучении и подготовке войск родственны мыслям Суворова. Оба этих великих полководца считают, что главной силой армии является человек, и оба окружают солдата отцовской заботой» (Коробков).
Румянцев выдвинул ряд основополагающих идей.
Вот только некоторые из них. «Организация вооруженных сил должна соответствовать историческим и географическим особенностям России. Было бы полным абсурдом слепо копировать европейские институты». «Эффективность армии основывается на процветании нации, следовательно, важно не обременять народ чрезмерно». «Цели стратегии ставит политика».
Мысли Румянцева о войне
«Победить противника превосходящими силами может каждый, победить же меньшими силами и есть искусство». «Никогда не упускайте из виду главной цели, направляйте все ваши усилия к достижению этой цели, вдохновляясь примерами из прошлого». «Целью является не завоевание географического объекта, но разгром сил противника». «Принципы войны: сосредоточение сил, безопасность коммуникаций, тесное взаимодействие между родами оружия».
Румянцев пропагандирует преимущества наступления. «Атака приносит больший вред противнику, оборона надежнее удерживает его. Но речь идет не о том, чтобы слепо двигаться вперед, нужно организовывать завоеванную территорию, тщательно готовить операцию». Если ощущается недостаток сил, можно переходить к обороне, но оборона должна быть активной. Если же превосходство противника в силах слишком велико, допустимо отступление. «Храбрость и твердость иногда вынуждены уступать превосходству в силах», но в этом случае нужно использовать первую же возможность, чтобы возвратить себе инициативу. Победой должно завершать преследование противника. Румянцев допускает существование Высшего военного совета, но настаивает, чтобы тот состоял из генералов, проявивших себя на поле боя. Как бы то ни было, главнокомандующий должен пользоваться полной свободой при проведении операции. «По своим последствиям военные предприятия, более чем все прочие, требуют обдуманности и непрерывности». Детальные планы, разработанные заранее, неосуществимы. «Сама боевая действительность представляет важные случаи; прекрасные планы же всегда наталкиваются на непреодолимые препятствия». Таким образом, Румянцев рекомендует на всех уровнях предоставить командирам свободу действий в рамках полученного приказа.
Чтобы облегчить маневр, Румянцев вводит варьирование строя на поле боя. Распространенный в это время линейный порядок построения заменяется использованием колонн, каре, действующих в рассыпном строе егерей. Кстати, именно Румянцеву приписывают создание егерских частей (1761). Пехоте он отводит ведущее место, «пехота – основа армии», но борется с преувеличением роли ружейного огня, что было характерно для его времени. В инструкции, вышедшей в 1773 г., подтверждая уважение к ружейному огню, полководец подчеркивает, что пехота совершает непрерывный маневр, венцом которого является штыковая атака. Огневое превосходство должна обеспечивать артиллерия. «Задача артиллерии – нейтрализовать все, что мешает продвижению пехоты». В другой инструкции, адресованной уже командирам батарей, он рекомендует забыть о стрельбе с больших расстояний в пользу ведения огня со средних и малых. Он также выдвигает идею создания постоянных крупных соединений, настаивает на важности разведки, предлагает унификацию униформы.
В 1770 г. выходит его «Обряд службы», который в 1788 г. станет обязательным для всей армии. Ружейные приемы упрощены, основное внимание уделяется индивидуальному обучению, быстроте развертывания подразделений, порядку ведения огня, скорострельности. Румянцев предлагает ввести тактический резерв, облегчает управление войсками в бою путем дробления частей, совершенствует обучение штыковому бою, напоминает, что кавалерия должна иметь привычку к атаке галопом, убирает из войск фризских лошадей, замедляющих продвижение войск и не соответствующих наступательному духу. Он требует, чтобы офицеры чаще беседовали с подчиненными о службе, дисциплине, преданности трону и родине, верности присяге.
Мысли Румянцева об обучении и подготовке войск
Ему он придает первостепенное значение.
«Жизнь военного нестабильна, тяжела и сопряжена с опасностями, но также она дает честь и славу посвятить себя согражданам и быть постоянно готовым отдать жизнь за Отечество».
«Необходимо постоянно учить солдата порядку, дисциплине, внушать, что знания ведут к победе и что одной храбрости для этого недостаточно».
«Успехи есть результат порядка, повиновения, равенства всех перед законом и взаимного доверия между командирами и рядовыми. Солдат, воспитанный в понимании чувства долга, непобедим».
«Полковые и ротные командиры должны постоянно поддерживать солдат в состоянии, долженствующем быть для них обычным – честности, вежливости и чистоте».
Войска обязаны постоянно упражняться в совершении маршей, преодолении водных преград, штурмах фортификационных сооружений, маневрах двойного действия, взаимодействии с флотом.
Румянцев обращает внимание на важность формирования духа коллективизма. «Необходимо развивать у солдата любовь к его полку. Необходимо знание истории полка. Чувствуешь себя сильнее, когда являешься хранителем славы своих предшественников».
Полководец требует от командиров постоянной заботы о подчиненных.
«Лучше убеждать, чем заставлять подчиняться», – говорит он.
«Не бить за ошибки в эволюциях и в обращении с оружием; неустанно показывать, как это нужно делать. Наказывать за небрежность и пьянство, не доходя до жестокости. Жестокостью ничего не исправишь».
Советский историк Коробков пишет: «Румянцев сыграл важную роль в истории русского военного искусства. Среди великих полководцев он занимает место, сравнимое с Петром Великим, Суворовым и, вместе с ними, должен считаться одним из основателей национальной школы».
Потемкин, князь Таврический
Молодой унтер-офицер конной гвардии в 1762 г., выходец из мелкого дворянства, Потемкин обращает на себя внимание императрицы и надолго становится ее сердечным другом. Но даже если его блистательной карьере содействовала Екатерина, все же в основе ее находятся его бесспорные таланты государственного и военного деятеля. Гениальный покоритель Новороссии, он с 1780 г. играет ведущую роль в военной политике России. Потемкин проявляет себя прежде всего как умелый организатор. Он реформирует систему рекрутирования и уделяет большое внимание развитию легких войск – кавалерийских и казачьих. Князь вводит в армии удобную и красивую форму. «Евангелие и долг военного человека побуждают пещись о сохранении людей, – пишет он. – Я сделал все, чтобы облегчить ношу солдата, дав ему при этом необходимое, чтобы сохранить здоровье и прикрыться. Завивать букли, пудриться, заплетать косу – разве солдатское это дело? Полезнее мыть и расчесывать волосы, нежели отягощать их пудрой, салом и мукой. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов»[30].
В военном деле он следует идеям Румянцева. Потемкин также требует от командиров быть примером для подчиненных, облегчает наказания, строго карая за серьезные провинности, пресекает злоупотребления. Главнокомандующий во время второй Русско-турецкой войны, он успешно руководит боевыми действиями. Князь не похож на спартанцев Румянцева и Суворова, любит роскошь, размах. В его свите поэты, музыканты, театральная труппа и балерины. Из-за надменности Потемкин наживает многочисленных врагов; современники и историки весьма неоднозначно оценивают данную личность. «Конечно, его не сравнить с Петром Великим, Румянцевым и Суворовым, но он следует за ними. Поразительные противоречия его характера, болезненное самолюбие, превосходное знание военного дела и воля, граничащая с упрямством, превращались у него в осторожность и тщательные расчеты перед началом каждой операции. Но методичность и логика, характеризующие его операции, свидетельствуют, что Потемкин был незаурядным генералом. Его приказы и инструкции относительно обучения и использования войск в бою обеспечили ему не последнее место в истории развития тактики» (Масловский).
Суворов, граф Рымникский, князь Италийский
Суворов родился в 1730 г. в Москве, в старинной дворянской семье. С самого юного возраста он проявил интерес к военному делу, которое станет страстью всей его жизни. «Я всего лишь солдат, я не знаю ни дома, ни семьи», – сказал он.
В 1745 г. он идет солдатом в гвардейский Семеновский полк. Прослужит два года рядовым и четыре года капралом, узнав и полюбив за это время простого солдата.
Широко образованный, обладающий светлым умом, воодушевляемый несгибаемой волей («Побеждай и будешь непобедимым») и решительностью, он отличается от других бьющей через край активностью. Человек по-спартански умеренный, откровенный, порой до бесцеремонности, остроумный и эксцентричный, Суворов наделен безумной смелостью («Я научился не бояться смерти»). Язык полководца прост и лаконичен, он презирает высший свет и комфортно себя чувствует только среди солдат, на которых имеет практически неограниченное влияние[31].
В войсках о Суворове слагали песни:
Счастлив сделать невозможное,
Счастлив биться против всего мира,
Счастлив умереть с тобой…
А эти поэтические строки будто припев к его «Науке побеждать»:
Сила армии не в числе,
Не в оружии и снаряжении,
Сила армии в уме и сердцах.
Суворов всегда находился у кого-то в подчинении. Взятие Измаила является исключением. Другие его победы одержаны благодаря инициативе, вырванной или навязанной им командирам. Можно утверждать, что Суворов так и не сумел самореализоваться в полной мере. Однако он, и только он остается богом для русских солдат, тем, о ком Николай I скажет: «Победоносец русских войск». Почтительное уважение всей нации к памяти Суворова, сохраняющееся до наших дней, заслуживает интереса. «Несмотря на широту талантов Потемкина и Румянцева, они далеки от гениального понимания природы человека и войны, характерного для Суворова. То, что было интуитивно схвачено Петром Великим, уточнено и завершено Суворовым. Такая духовная преемственность может быть объяснена лишь тем, что оба гения созидали, основываясь на непоколебимой вере в духовную силу их нации. Оба они слышали голос народа и черпали вдохновение в широте русского сердца» (Байов).
Гений Суворова сформировался под влиянием наследия военных классиков. Страстно увлеченный историей, он с большим прилежанием изучал их труды. Убежденный, что полководцем можно стать, только критически проанализировав минувшие войны, он утверждал: «Тактика без истории – потемки». В общеисторическом плане его учителем был Цезарь, а в национальном – Петр Великий. «Я всегда носил кокарду Петра Великого», – скажет он перед смертью. Богатый личный опыт позволил Суворову проверить собственные теоретические выводы, а 63 победы, одержанные почти всегда меньшими, чем у противника, силами, стали убедительным подтверждением правоты его принципов. Полковник был человеком действия, а не писателем. Потребовалось около века, чтобы собрать его письма, заметки и инструкции[32]. После «Суздальского учреждения», написанного им в 1764 г. и резюмирующего опыт командования Суздальским пехотным полком[33], пришлось ждать около тридцати лет, прежде чем появилась его «Наука побеждать», в которой без преувеличения собран опыт всей его жизни.
Идеи Суворова о войне отличаются собой четкостью. Цель любого вооруженного противостояния – разгром вражеской армии. Этого можно достичь только наступательными действиями. Поэтому доктрина Суворова по сути своей сводится к наступлению.
Лаконичная формула «глазомер, быстрота, натиск» резюмирует его принципы войны.
Глазомер. Это способность быстро решить любую проблему, быстро оценить ситуацию, принять решение, в короткий срок, но с учетом малейших деталей подготовить операцию и, наконец, осуществить ее с максимумом шансов на успех. Чтобы его развить, необходимо работать всю жизнь, и Суворов считает, что для того, чтобы побеждать, требуется постоянно совершенствовать свои знания. «Хотя мужество, доверие и храбрость необходимы при всех обстоятельствах, они пусты, если не подкреплены знанием». «Одни лишь постоянные упражнения ума создают великого полководца, который ведет свои войска в бой, а не на убой», – говорит он. «На победу, а не на беду». Разум и расчет, точное знание возможностей, своих и неприятеля, занимают важное место. Такие качества могут быть воспитаны лишь методичным трудом, постоянной интеллектуальной гимнастикой, систематической учебой, и решающую роль здесь играет изучение истории.
Быстрота. Чтобы навязать противнику свою волю, его необходимо застать врасплох. Школа Суворова – искусство действовать внезапно и уберечь собственные войска от внезапного нападения. Внезапность же достигается в первую очередь быстротой в замысле и осуществлении. «Фортуна имеет голый затылок, – говорил он, – а на лбу длинные висящие власы. Лёт ее молниин; не схвати за власы – она уже не возвратится…» «Упреждай случай твоей быстротой… командуй удачей. На войне деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, но время дороже всего». «Одна минута решает исход баталии, один час – успех кампании, один день – судьбы империй. Я действую не часами, а минутами». «Быстрота и внезапность заменяют число».
Натиск. Решающий момент битвы, который предопределяет ее исход. Побеждать способны только те войска, которые готовы на решающий бой с противником. Для придания удару максимальной силы Суворов требует различных средств, но численное превосходство априори необязательно. «Неприятеля можно атаковать один против четверых или пятерых, если действуешь с искусством и умом».
Таковы общие взгляды Суворова на войну. Однако недостаточно понять только принципы, необходимо научиться их применять, а также управлять войсками, умеющими воевать.
Суворов разрабатывает систему воспитания и обучения войск, которая лежит в основе его школы. Ведущее место он отводит человеку. В доктрине преобладает дух над материей. Русский человек с трудом подчиняется материальным вещам, природное влечение ведет его через свободу к анархии. Мечтатель, он размышляет о справедливости на земле. Когда в его поступках отсутствует духовность, он превращается в бунтовщика. Природная склонность к насилию приведет такого человека к разнузданности и разрушениям. Если же его вдохновляет добро, то он легко становится героем, но если нет – так же легко превращается в преступника. Конечно, русскому нужна твердая дисциплина, но одной ее недостаточно. Религия, заботящаяся о евангелизации душ, может направить в нужном направлении внутренние порывы человека. Суворов убежден, что максимальной отдачи следует ждать от солдата, удерживаемого в рамках христианских заповедей, которые в России неотделимы от идеи Отечества. Это принципиально важный момент – школа Суворова основывается на христианстве. «Суворов воодушевлен простой и чистой верой в Бога, которая всегда составляла силу русского народа. Его воспитательная система основана на христианских принципах со всем присущим им глубоким гуманизмом. Солдат-христианин[34] – вот идеал Суворова» (генерал Штейфон).
Суворов стремится победить дурные наклонности человеческой души и разбудить все благородное, что в ней есть. Он с грустью говорит о неграмотности народа: «Немецкий, французский крестьянин знает церковь, веру, знает свои молитвы; а русский, даже деревенский священник, едва с ними знаком. Мои солдаты учат молитвы. Так они открывают для себя, что Бог присутствует везде и всегда, и направляются к добру». В своих поучениях солдатам он использует любую возможность, чтобы напомнить о существовании Всевышнего: «Будь благочестив, уповай на Бога, молись Ему усердно. Это Он дарует победу. Бог нас водит. Он нам генерал!» Одновременно с религиозным воспитанием проводится патриотическое: «Слава Богу, мы русские!» «Работайте быстро, ловко, храбро, по-русски!» «У неприятеля руки как у нас, да он не знает русского штыка». «Ты русский, – говорит он Милорадовичу, – стало быть, знаешь трех сестер: надежду, веру и любовь. С ними слава и победа, с ними Бог!» Суворов стремится привить своим войскам безграничную преданность и Родине и вере. Потому что побеждать могут только те армии, которые воодушевлены какими-либо идеалами. Одержать верх может лишь тот, кто принял решение: победить или умереть. «Нет ничего опаснее отчаянных, – говорит он, – а мои войска дерутся отчаянно»[35]. После воспитания, только завершив его, начинается обучение. «Хорошее обучение рождает уверенность, уверенность порождает мужество, мужество ведет к победе», – учит Суворов. То есть в ходе напряженного обучения формируется у воина необходимый комплекс превосходства. Этот процесс должен ограничиться только самыми необходимыми вещами, но их следует усвоить в совершенстве. Все лишнее, мешающее главному, должно быть отброшено. В обучении, как и во всем остальном, нужно уметь определить главное. В основе этого лежит индивидуальный подход. Обучение должно иметь практическую направленность и проводиться в условиях, максимально приближенных к боевым, даже если потребуются некоторые потери. Рекомендуется применение «сквозных атак». «Сходство этих атак с реальным боем поразительно. Буря движения, вид двух людских масс, бросающихся одна на другую, скрещивающиеся штыки, ружейные и орудийные выстрелы, покрывающие все прочие звуки, пороховой дым, крики офицеров и громовое ура! – все это давало войскам представление о настоящей атаке, о ее ощущениях и требованиях» (Драгомиров). Суворов добивался, чтобы эти тонкости «науки побеждать» были досконально изучены и стали достоянием каждого солдата. Необходимо, чтобы они знали, что и к чему в военном ремесле, только тогда исход войны предстанет как дело, напрямую касающееся каждого из них. Тем, кто с сарказмом относится к урокам, преподаваемым бывшим крестьянам, он отвечает: «Кто сомневается в человеке, недостоин командовать людьми». «Нужно ли объяснять причины, делавшие войска Суворова непобедимыми? – пишет Драгомиров. – Последний солдат, попав в сферу его влияния, узнавал в теории и на практике военное дело лучше, чем его знают сегодня самые образованные. Поняв, что для победы необходимо укрепить солдата интеллектуально, морально и физически, он вводит свою систему обучения. Развитие умственных способностей и особенно упорства, характера, уменьшение силы инстинкта самосохранения, укрепление ума солдата позитивным знанием принципов войны – вот система Суворова во всем ее величии. Для солдата в бою не было неожиданностей, ибо он еще в мирное время испытал самые тяжелые из боевых впечатлений. Для него не могло быть ничего непонятного в бою, ибо обо всем военном деле этот солдат имел основательное теоретическое представление. Если человек выдержан так, что его ничем удивить невозможно; если он при том знает, что должен делать в своей скромной сфере, – он не может быть побежден, он не может не победить».
Суворов доказал, что для войск, воспитанных и обученных в соответствии с этими принципами, нет ничего невозможного. Постоянные тренировки и самоотверженность солдат сделали их пригодными для выполнения задач, обычно считавшихся невыполнимыми. Вместо 20 км в день они проходили по 60; удобным дорогам, на которых их поджидал противник, они предпочитали пути, считавшиеся непроходимыми и потому не охранявшиеся, решительно шли на штурм неприступных крепостей, атаковали в лесистой местности и практиковали атаки в темное время суток, мало распространенные в то время. И при этом всегда побеждали. Суворов был чужд догматизму, любой предвзятости и готовым формулам. Для него не существовало неизменных тактических правил, они постоянно развивались, адаптировалась к ситуации и к противнику. Наконец, каждый род оружия использовался в соответствии с обстоятельствами, а не с фундаментальными правилами его использования. Все определялось здравым смыслом и рассуждением. Он осыпал саркастическими замечаниями тех, кто искал секрет побед не в разуме, а в формах.
