Мавританская Испания. Эпоха правления халифов. VI–XI века
Text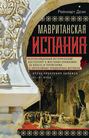


Go to audiobook
- Size: 930 pp. 3 illustrations
- Genre: General history, Theology, history of religion
Во время правления Валида, который в 705 году стал преемником своего отца Абд аль-Малика, власть кайситов достигла высшей точки.
– Сын мой, – сказал Абд аль-Малик на смертном одре. – Всегда относись к Хаджаджу с величайшим уважением. Это ему ты обязан троном. Он твой меч и твоя правая рука, и он тебе нужен больше, чем ты ему.
Валид всегда помнил это напутствие.
– Мой отец, – говорил он, – утверждал, что Хаджадж – кожа его лба. Я скажу, что он – кожа моего лица.
Эти слова резюмируют все правление Валида, которое действительно было плодотворнее, чем любое другое, в части завоеваний и военной славы. В это время кайсит Кутайба водрузил мусульманское знамя над стенами Самарканда, Мухаммед ибн Касим, кузен Хаджаджа, покорил Индию до подножия Гималаев, а на другом конце империи йемениты, завоевав Северную Африку, аннексировали Испанию, для чего основы заложил еще мекканский пророк. Тем не менее это был катастрофический период для йеменитов, и особенно для двух самых известных, хотя и не самых уважаемых из них – Язида, сына Мухаллаба, и Мусы, сына Нусайра. К несчастью для себя, Язид, ставший главой этого дома после смерти отца, дал Хаджаджу прекрасные основания для враждебности. Как и другие члены его семьи, которая была самой щедрой и великодушной при Омейядах – как Бармакиды при Аббасидах, – Язид сорил деньгами везде, где бывал. Он хотел быть счастливым и сделать счастливыми других и потому свободно предавался удовольствиям, поддерживал искусства и всячески проявлял царскую щедрость. Говорят, что однажды, совершая паломничество в Мекку, он заплатил тысячу монет брадобрею за его услуги. Удивленный получением столь крупной суммы, брадобрей воскликнул:
– На эти деньги я выкуплю свою мать из рабства!
Тронутый таким явным проявлением сыновней любви, Язид дал ему еще тысячу монет.
– С такими деньгами я навсегда избавлюсь от жены! – в восторге закричал брадобрей. – Надо только побрить еще одного человека.
После этого Язид дал ему еще две тысячи монет. Подобных историй рассказывают о нем много, и все они указывают на то, что золото утекало у него между пальцев, словно вода. Но поскольку ни одно состояние, пусть даже очень большое, не может устоять против мотовства, доведенного до безумия, Язиду, чтобы избежать разорения, пришлось посягнуть на казну халифа. Хаджадж потребовал выплаты шести миллионов в казну. Язид не сумел найти даже половину суммы и потому был брошен в темницу, где подвергся жестоким пыткам. Спустя четыре года он сумел бежать вместе с двумя братьями, также попавшими за решетку. Хаджадж решил, что беглецы направились в Хорасан, чтобы поднять там мятеж, и направил гонцов к Кутайбе, чтобы тот был начеку. Однако беглецы пересекли пустыню Семава – с проводником кельбитом – и попросили защиту у Сулеймана, брата халифа и главы партии йеменитов. Тот был наследником трона, благодаря мерам предосторожности, принятым Абд аль-Маликом. Сулейман поклялся, что, пока он жив, сыновьям Мухаллаба нечего бояться. Он предложил выплатить в казну три миллиона, которые Язид не сумел достать, и получить для него прощение. Последнее ему удалось с большим трудом, пришлось даже прибегнуть к некоторым театральным эффектам. С тех пор Язид жил во дворце своего защитника, ожидая момента, когда его партия сможет вернуться к власти. На вопрос, почему он не купит дом для себя, Язид отвечал: «Зачем? Вскоре у меня обязательно появится постоянное жилье. Это будет дворец правителя, если Сулейман станет халифом, или тюрьма, если он им не станет».
Другой йеменит, будущий покоритель Испании, не был, как Язид, отпрыском знатного рода. Он был вольноотпущенником и связан с партией, тогда пребывавшей в опале. Его хозяин Абд аль-Азиз, брат халифа Абд аль-Малика и правителя Египта, был, как мы видели, сторонником кельбитов, поскольку его мать была из этого племени. Уже во время правления Абд аль-Малика Муса, будучи сборщиком налогов в Басре, был признан виновным в злоупотреблениях. Халиф, когда ему сообщили об этом, приказал Хаджаджу арестовать его. Вовремя предупрежденный Муса бежал в Египет, где прибег к покровительству своего хозяина. Последний не только не возражал, но и лично отправился ко двору, чтобы урегулировать проблему. Халиф потребовал гарантию возмещения ущерба в сто тысяч золотых монет. Абд аль-Азиз выплатил половину этой суммы, после чего поспособствовал назначению Мусы наместником одной из провинций Северной Африки. Даже после завоевания Испании Муса, к тому времени изрядно разбогатевший, продолжал обращаться с собственностью халифа с прежней бесцеремонностью. Это правда, что казнокрадство было в те дни обычным делом. Вина Мусы заключалась в том, что он действовал более дерзко, чем другие, и при этом не принадлежал к господствующей партии. Валид внимательно следил за наместником и через некоторое время вызвал его в Сирию, чтобы получить отчет о проделанной работе. Муса уклонялся от исполнения приказа, сколько мог, но в конце концов был вынужден подчиниться. Он покинул Испанию и, прибыв ко двору, первым делом попытался умерить гнев халифа роскошными дарами. Не помогло. Давно копившийся гнев его спутников Тарика, Мугиса и других вырвался наружу. Они осыпали Мусу обвинениями, в которые легко поверили. Вероломный наместник был бесславно изгнан из зала аудиенций еще до окончания совета. Халиф хотел казнить Мусу, но некие влиятельные придворные, которых Муса перекупил, сумели спасти его жизнь, но взамен он был обязан выплатить огромный штраф.
Вскоре после этого Валид умер, оставив трон своему брату Сулейману. Крах кайситов последовал немедленно и был полным. Хаджаджа больше не было. Говорят, он всегда молился, чтобы Аллах позволил ему умереть раньше предводителя правоверных, и не заставил его подчиняться суверену, у которого не будет к нему сострадания. Аллах услышал его молитвы и пошел навстречу. Но все его люди и друзья, еще занимавшие те или иные должности, были немедленно заменены йеменитами. Язид ибн Аби Муслим, вольноотпущенник и писец Хаджаджа, лишился высокой должности в Ираке и был брошен в темницу, откуда вышел через пять лет после восхождения на трон халифа кайсита Язида II. Язид ибн Аби Муслим стал правителем Африки. В те дни внезапные и резкие перемены были отнюдь не редкими.
Менее удачливым, чем Язид ибн Аби Муслим, оказался доблестный Кутайба – его обезглавили. Знаменитый покоритель Индии Мухаммед ибн Касим, кузен Хаджаджа, умер под пытками. А Язид, сын Мухаллаба, которого при предшествующем правителе едва не постигла та же участь, теперь пользовался неограниченной властью, как фаворит Сулеймана. Когда Муса прибыл в Сирию, Валид был уже при смерти, и его брат, страстно желавший получить богатые дары, которые Муса предложил халифу, посоветовал Мусе не спешить, чтобы добраться до Дамаска уже после смерти старого халифа и восхождения на трон нового – Сулеймана. Валид не последовал совету, и великолепные дары унаследовали сыновья Валида. Понятно, что Сулейман затаил на него злобу и не пожелал уменьшить размер штрафа, который, кстати, Муса смог без труда заплатить с помощью своих людей в Испании и членов бени лахм, племени его жены. Но Сулейман не стал упорствовать в своей мстительности. Существует много легенд относительно судьбы Мусы. Все они были вымыслом романтиков той эпохи, когда взаимоотношения партий VIII века было забыто. Точно было известно лишь одно: Муса пользовался, как утверждает древний и достойный доверия автор Балазури, покровительством и дружбой Язида, сына Мухаллаба, всемогущего фаворита Мухаллаба. И нет никаких убедительных причин принимать на веру упомянутые выше легенды. Они ни на чем не основаны и противоречат обстоятельному рассказу современного хрониста Исидора Бежского (он же Исидор Паценский).
Преемник Сулеймана Омар (Умар) II представляет собой уникальное явление в истории Омейядов. Он был не сторонником или поборником, а почтенным иерархом, святым человеком, который испытывал отвращение к раздорам и ненависти, неустанно благодарил Бога за то, что не жил в эпоху исламских святых, когда Али, Аиша и Муавия боролись за победу, и даже запретил упоминать об этой ссоре. Целиком поглощенный интересами религии и распространением веры, он напоминает нам того почтенного понтифика, который призвал флорентинцев быть не гвельфами и гибеллинами, а христианами и согражданами. Но Омар II был так же далек от реализации своих благородных мечтаний, как Григорий X. Язид II, преемник Омара, женатый на племяннице Хаджаджа, был кайситом. Затем на трон взошел Хишам. Он сначала проявлял благосклонность к йеменитом и, заменив людьми из этой партии многих правителей, назначенных его предшественником (к примеру, в Хорасане кайсита Муслима аль-Килаби сменил йеменит Асад аль-Касри), позволил тем, кто пришел к власти, подвергнуть жестоким гонениям тех, кого они вытеснили. Но впоследствии, по причинам, о которых мы поговорим позже, он отвернулся от йеменитов, и кайситы получили зеленую улицу, особенно в Африке и Испании.
Поскольку арабское население этих стран состояло почти целиком из йеменитов, когда у власти находились представители этой партии, там было, как правило, спокойно. А если к власти приходили кайситы, они становились театрами самых ожесточенных военных действий. Именно это произошло после смерти кельбита Бишра, правителя Африки. Бишр на смертном одре поручил управление провинцией одному из своих соплеменников, который, как выяснилось, грубо льстил самому себе, считая, что халиф Хишам официально утвердит его в этой должности. Его надежды не оправдались, поскольку Хишам назначил кайсита Обайду из племени сулайм. Кельбит, узнав об этом, решил, что достаточно могуществен и сумеет удержаться на посту силой оружия.
Было утро пятницы в июне или июле 728 года. Кельбитский правитель уже должным образом облачился, чтобы идти в мечеть, когда к нему пришли друзья и сообщили, что эмир Обайда вот-вот войдет в город. Потрясенный кельбит на некоторое время утратил дар речи. Опомнившись, он сумел выдавить из себя: «Бог велик. Час Страшного суда грянет неожиданно!» Но тут ноги отказались его держать, и, охваченный ужасом, он рухнул на пол.
Обайда понимал: чтобы утвердить свою власть, он должен занять столицу внезапно. К счастью для него, в Кайруане не было стен. Обайда и его кайситы сумели войти в город очень тихо, окольными путями, когда все население полагало, что он еще в Египте или в Сирии. Овладев столицей, он стал относиться к кельбитам с беспрецедентной жестокостью. Их бросали в тюрьмы, пытали и, чтобы удовлетворить корыстолюбие правителя, наказывали заоблачными штрафами.
Настал черед Испании. Ее правителя в то время назначал наместник Африки, но пока она лишь однажды подчинялась кайситу. Потерпев неудачу в первых попытках, Обайда послал туда кайсита Хайсама из племени килаб, одновременно пригрозив испанским арабам суровой карой, если они станут игнорировать приказы своего нового правителя. Йемениты зароптали – возможно, даже начали обдумывать заговор против Хайсама. В любом случае Хайсам был в этом уверен и по совету Обайды бросил лидеров партии в тюрьму, под пытками вырвал у них признание в заговоре и казнил. Среди его жертв был кельбит, который имел благородное происхождение, немалое богатство и обладал красноречием и потому пользовался немалым уважением. Это был Сад, сын Джоваза, горько упрекавшего в стихах халифа Абд аль-Малика за неблагодарность к кельбитам, которые в сражении при Мардж-Рахите решили судьбу империи и утвердили на троне Мервана. Исидор назвал его просто Зат (Сад). После казни Сада кельбиты возмутились, и некоторые из них, включая Абраша, секретаря Хишама, еще не утратившего влияние при дворе, добились отправки в Испанию некого Мухаммеда с приказом наказать Хайсама и передать управление провинцией йемениту Абд-ер-Рахману (Абдурахману) аль-Гафики, который пользовался большой популярностью. Прибыв в Кордову, Мухаммед не смог найти Абд-ер-Рахмана, надежно спрятавшегося от преследований тирана. Тогда Мухаммед арестовал Хайсама, приказал его бить палками и обрить его голову – это было клеймо позора. Потом бывшего правителя заковали в цепи, посадили на осла лицом к хвосту и провезли по улицам города. Затем Хайсама отправили в Африку, чтобы наместник решил его дальнейшую судьбу. Едва ли можно было ожидать, что Обайда сурово накажет человека, который, по сути, выполнял приказы своего начальника. Халиф, со своей стороны, считал, что в достаточной мере удовлетворил кельбитов, хотя они требовали большего. По арабским понятиям, смерть Сада могла искупить только смерть его убийцы. С учетом сказанного Хишам отправил Обайде настолько двусмысленный приказ, что тот смог трактовать его в пользу Хайсама. Это не могло не разочаровать кельбитов, но они не пали духом, и Абу-л Хаттар, глава одного из кельбитских кланов и близкий друг Сада, брошенный в тюрьму Обайдой, излил свою ненависть к тирану и кайситам в целом в поэме, предназначенной для ушей халифа:
«Ты позволил кайситам пролить нашу кровь, о сын Мервана. Но если ты откажешь нам в справедливости, мы обратимся к праведному Божьему суду. Вероятно, ты забыл сражение при Мардж-Рахите и не помнишь, кто дал тебе победу. Знай, что именно наши груди прикрыли тебя от копий врагов и у тебя не было ничего, кроме нас. Но с тех пор как ты достиг своих целей и, благодаря нам, купаешься в удовольствиях, ты перестал нас замечать. А ведь мы всегда тебе помогали. Остерегайся вымышленной безопасности, ведь война в любой момент может начаться снова. А когда твоя нога ступит на веревочную лестницу, канат, который ты считаешь прочно свитым, может расплестись. Такое нередко случается».
Кельбит Абраш, писец Хишама, взялся прочитать это произведение халифу, и угроза гражданской войны произвела такое сильное впечатление на Хишама, что он моментально велел сместить Обайду, воскликнув в праведном или притворном гневе: «Да покарает Аллах этого сына христианина, который не внял моим приказам!»
Глава 10
Берберы
Противостояние между йеменитами и кайситами не могло не повлиять на покоренные расы, в отношении которых взгляды двух противоборствующих сторон резко расходились, особенно насчет выплаты дани. Хаджадж заложил основы политики, которой должна была следовать его партия. Закон требовал, чтобы христиане и евреи, оказавшиеся под мусульманским правлением и принявшие ислам, освобождались от уплаты в казну подушного налога, взимаемого с тех, кто сохранил веру предков. Заметим, что дань с неверных называлась харадж или джизья, в отличие от десятины, которую называли закят. Благодаря этой наживке для бережливых, мусульманская церковь ежедневно принимала в свое лоно новых обращенных, которые, хотя и не были абсолютно уверены в истинности ее доктрин, выигрывали материально. Богословы радовались быстрому распространению веры, но казна многое теряла. Вклад Египта во время халифата Османа составил 12 миллионов, но при Муавии, когда многие копты уже были обращены, снизился до 5 миллионов. При Омаре (Умаре) II он снизился еще больше. Это вызвало тревогу благочестивого монарха, и когда ему сообщили, что очень скоро все зимми – немусульманские подданные исламского государства, жизнь и имущество которых защищал закон, – и доходы, которые государство получает от них, будут потеряны, тот ответил: «Я возрадуюсь, когда все зимми станут мусульманами, поскольку Бог послал на землю своего пророка, чтобы стать апостолом, а не сборщиком податей».
Хаджадж считал иначе. Он не слишком интересовался распространением веры и, чтобы сохранять хорошее отношение халифа, должен был постоянно пополнять казну. Поэтому он не дал освобождения от налога новым мусульманам Ирака. Кайситы последовали этому примеру и даже пошли дальше, обращаясь со всеми покоренными народами надменно и излишне жестоко. Вместе с тем йемениты, если и не всегда сдержанно и справедливо относились к покоренным народам, будучи у власти, когда пребывали в оппозиции, присоединяли свои голоса к голосам протестующего местного населения против стяжательской политики своих извечных соперников. Понятно, что покоренные народы с нетерпением ожидали возвращения безмятежных дней власти йеменитов. Но им приходилось часто разочаровываться. Йемениты были не первыми и не последними либералами, обнаружившими, что, хотя очень просто, пребывая в оппозиции, выступать против налогов, требовать финансовой реформы и обещать ее после возвращения к власти, это обещание довольно трудно выполнить. «Я попал в очень сложное и неловкое положение, – заявил лидер йеменитов Язид ибн Мухаллаб, которого Сулейман назначил правителем Ирака. – Все жители провинции надеются на меня. Они будут проклинать меня, как проклинают Хаджаджа, если я заставлю их платить ту же дань, что раньше. Однако я навлеку на себя гнев Сулеймана, если он не будет получать от меня столько же, сколько его брат получал, когда в Ираке правил Хаджадж». Пытаясь благополучно уйти от дилеммы, он совершил ловкий ход. Заявив халифу, что не сможет взять на себя сбор дани, он поручил эту одиозную задачу представителю противной стороны.
Следует признать, что среди йеменитов было немало весьма гибких людей, которые легко находили компромисс со своими принципами и которые сохраняли должности и при йеменитах, и при кайситах, преданно служа своим хозяевам. К таким людям можно отнести кельбита Бишра. Их становилось все больше, по мере того как моральные принципы приобретали все большую либеральность, а преданность своему племени уступала место честолюбию и жажде обогащения. Бишр, назначенный наместником Африки кайситом Язидом II, послал одного из своих соплеменников, по имени Анбаса, в Испанию, чтобы собрать двойную дань с христиан этой страны. Но когда на трон взошел йеменит Хишам, Бишр послал Яхью, другого своего соплеменника, с приказом вернуть христианам все, что было у них несправедливо изъято. Христианский автор того времени отметил, что этот «ужасный правитель» использовал жестокие средства, чтобы заставить мусульман вернуть то, что им не принадлежало.
Но в целом йемениты были мягче своих противников, если говорить об обращении с покоренными народами, а значит, население их меньше ненавидело. Народы Африки – особенно агломерация разнородных элементов, которую арабы обнаружили распространившейся от Египта до Атлантики; этих людей называли берберами, – явно предпочитали йеменитов. Страбон уже давно отметил, что берберы во многих отношениях похожи на арабов. Они вели кочевой образ жизни в рамках определенных границ, как сыны Исмаила, их методы ведения военных действий совпадали с военной практикой бедуинов. Об этом писал Муса ибн Мусайр, сыгравший большую роль в их покорении. Как и арабы, берберы с незапамятных времен привыкли к независимости – власть Рима распространялась только на побережье. И они имели такую же политическую организацию, как бедуины, а именно демократию, сдерживаемую влиянием патрицианских семейств. Следовательно, арабы встретили в берберах более грозного противника, чем наемные войска и угнетенные подданные Персии и Византийской империи. За победой обычно следовало кровавое поражение. Не успели арабские завоеватели пересечь страну и достичь берегов Атлантики на севере Марокко, как их войска были окружены и разгромлены ордами, бесчисленными, как песчинки в пустыне. «Завоевание Африки невозможно, – писал правитель халифу Абд аль-Малику. – Едва успеваешь уничтожить одно берберское племя, как его место тут же занимает другое». Тем не менее арабы, несмотря на сложность предприятия, а может быть, даже благодаря ей – ведь они на каждом шагу встречались с препятствиями, преодоление которых любой ценой являлось для них делом чести, – продолжали завоевания с отвагой и беспрецедентным упорством. Через семьдесят лет ужасной войны африканцы покорились – они согласились сложить оружие при условии, что над ними никто не будет глумиться и к ним будут относиться не как к завоеванному народу, а как к братьям. Горе тому, кто посмеет оскорбить их. С глупой гордыней кайсит Язид ибн Аби Муслим, бывший секретарь Хаджаджа, попробовал обращаться с берберами как с рабами. Его убили, а халифу Язиду II, хотя он и был кайситом, хватило благоразумия не требовать наказания убийц, а послать кельбита управлять провинцией.
Менее прозорливый, чем его предшественник, Хишам спровоцировал бурное восстание, которое распространилось и на Испанию. Йеменит в начале своего правления, и потому даже пользовавшийся определенной популярностью, Хишам позже публично поддержал кайситов, которые были готовы удовлетворить его главную страсть – любовь к золоту. Поэтому, передавая им провинции, из которых они отлично умели выжимать все возможное, он получал больше доходов, чем все его предки. В 734 году, через полтора года после смещения Обайды, Хишам доверил управление Африкой кайситу Обайдаллаху.
Внук вольноотпущенника, Обайдаллах был не тем человеком, которого можно было презирать. Он получил хорошее образование, знал наизусть классические поэмы и древние баллады. Принадлежность к кайситам вдохновила его благородной идеей. Обнаружив в Египте только два кайситских племени, он привел в страну тринадцать сотен бедных семей кайситов, создал колонию и прилагал большие усилия, чтобы сделать ее процветающей. Уважение Обайдаллаха к семье своего покровителя было воистину трогательным. Находясь на вершине власти, он не только не стыдился своего низкого происхождения, но и открыто заявлял о своем долге перед Хаджаджем, освободившим его деда. Будучи наместником Африки, когда его посетил Окба, сын Хаджаджа, Обайдаллах усадил его рядом с собой и проявил к нему столько почтения, что его сыновья, с надменностью молодых выскочек, возмутились. Оставшись наедине с отцом, они призвали его к ответу. Они сказали:
– Ты усадил этого бедуина рядом с собой в присутствии знати и курашитов, которых это наверняка оскорбило, и они затаили на тебя злобу. Ты уже стар, и никто не станет обходиться с тобой дурно, да и смерть скоро защитит тебя от всех нападок. Но мы, твои сыновья, имеем все основания опасаться, что позор твоих деяний падет на нас. А что будет, если рассказ об этом случае дойдет до ушей халифа? Разве не разгневается он, узнав, что ты выказал больше уважения этому человеку, чем курайш?
– То, что вы говорите, справедливо, сыны мои, – ответил Обайдаллах. – У меня нет оправданий. Но я больше не заслужу ваших упреков.
На следующее утро он пригласил Окбу и знать во дворец. Он обращался со всеми уважительно, но почетное место предоставил Ибн-Хаджаджу, у ног которого сел сам. После этого он послал за сыновьями. Когда они вошли в зал и в немом изумлении застыли, не в силах поверить своим глазам, Обайдаллах встал и, восславив Бога и пророка, рассказал все, что накануне говорили ему сыновья.
– Призываю Аллаха и всех вас в свидетели – хотя и одного Аллаха достаточно, что этот человек – Окба, сын того самого Хаджаджа, который освободил моего деда из рабства. Моих сыновей сбил с пути истинного Иблис, вселивший в их души безумную гордыню. Однако я заявляю перед Богом, что я, по крайней мере, не виновен в неблагодарности, и хорошо понимаю, чем обязан небесам и чем – этому человеку. Я заявляю это публично, опасаясь, что мои сыновья могут лишиться Божьего благословения, не признавая, что этот человек и его отец – наши покровители. Ведь тогда они будут прокляты Богом и людьми. Я слышал, что пророк сказал: «Проклят будет тот, кто делает вид, что принадлежит к семье, в которой он чужой; проклят будет тот, кто отвергает своего покровителя». Также я слышал, что Абу Бакр говорил: «Отречься даже от самого дальнего родственника или утверждать, что ты принадлежишь к семье, к которой не имеешь отношения, – значит проявлять неблагодарность к Богу». Сыны мои, я люблю вас, как себя, и потому не подвергну вас проклятию Бога и человека. Вы говорили, что халиф разгневается, узнав, что я сделал. Успокойтесь. Халиф – пусть дарует ему Аллах долгую жизнь – благороден и великодушен. Он прекрасно знает свой долг перед Богом и человеком. И я не боюсь вызвать его гнев тем, что вознаграждаю своих друзей. Наоборот, я уверен, что он одобрит мое поведение.
Со всех сторон раздались возгласы:
– Он правильно говорит! Да здравствует наш правитель!
И только сыновья Обайдаллаха, охваченные стыдом, хранили молчание. Повернувшись к Окбе, Обайдаллах продолжил:
– Господин, мой долг – выполнять твои приказы. Халиф доверил моим заботам большую территорию. Выбери, какую провинцию ты предпочтешь для себя.
Окба выбрал Испанию.
– Мое величайшее желание, – сказал он, – принять участие в Священной войне. В Испании я смогу его исполнить.
Несмотря на благородную величественность своего характера и даже обладая всеми добродетелями своей расы, Обайдаллах также вполне отчетливо проявлял глубочайшее презрение, свойственное его расе ко всем неарабам. В его глазах копты, берберы, испанцы и все покоренные народы, которых он едва ли считал полноценными людьми, имели единственное жизненное предназначение – в поте лица своего обогащать расу, которую Мухаммед объявил исключительной. В Египте, где он был сборщиком налогов, он увеличил дань, выплачиваемую коптами, и этот народ, удивительно миролюбивый, ни разу, живя под мусульманским правлением, не прибегший к оружию, был настолько возмущен этой несправедливой мерой, что взбунтовался. Став правителем Африки, Обайдаллах взял за правило потакать капризам знати Дамаска за счет берберов. Поскольку шерсть мериносов, из которой делали ткань ослепительной белизны, пользовалась большим спросом в столице, Обайдаллах взял за правило силой отбирать овец у берберов и убивать их без разбора, хотя нередко в отаре находился только один ягненок с нужной шерстью, все остальные были абсолютно бесполезны для правителя. Не удовлетворившись лишением берберов их отар, основного источника богатства, или, точнее, единственного источника средств существования, Обайдаллах стал уводить их жен и дочерей и отправлять их в сирийские гаремы. Арабская знать высоко ценила берберских женщин, которые всегда считались красивее арабских.
Больше пяти лет берберы терпели молча. Они копили ненависть в своих сердцах, однако присутствие большой армии их сдерживало. И все-таки восстание приближалось. Оно должно было принять скорее религиозный, чем политический характер, и его лидерами предстояло стать миссионерам и священнослужителям. Несмотря на удивительное сходство между берберами и арабами, между ними имелось существенное различие. Одни были богобоязненными, склонными к предрассудкам и слепой почтительности с священнослужителям; вторые были нацией скептиков и зубоскалов, на которую не имели почти никакого влияния религиозные деятели. Даже в новое время африканские марабуты – мусульманские отшельники – имеют неограниченную власть в политических вопросах. Только они одни могут вмешаться, когда два племени вступают в конфликт. Если выбирают вождя, именно марабуты называют самых достойных кандидатов. Когда тот или иной кризис требует собрания племени, именно они уточняют разные мнения людей и после обсуждения между собой сообщают решение. Их жилища обеспечиваются и поддерживаются людьми, которые предупреждают все их желания. Интересно, что берберы имеют больше почтения к своим служителям культа, чем к самому Всевышнему. Французский автор Н. Домас, много лет последовательно изучавший обычаи этих людей, утверждает, что «имя Бога, к которому воззвал несчастный человек, оказавшийся в опасности, никак не защитит его, а имя почитаемого марабута может спасти». В этой связи заметим, что берберы никогда не играли важной роли в мире, если только их не подстрекали религиозные учителя. Марабуты заложили основы обширных империй Альморавидов и Альмохадов. Берберами с гор в войне с арабами долгое время руководила пророчица, обладавшая, по их мнению, сверхъестественными способностями. Арабский военачальник Окба ибн Нафи хорошо знал своих противников и довольно быстро сообразил: победить их можно, только сыграв на суевериях и вере в чудеса. И он переквалифицировался в колдуна и марабута. Он заклинал змей, утверждал, что слышит небесные голоса, и делал прочие глупости. Пусть такие методы кажутся нам детскими и нелепыми, но они сработали. Множество берберов, впечатленных «чудесами» Окбы, убедились, что противиться ему бесполезно, сложили оружие и приняли ислам.
В период, который мы сейчас рассматриваем, ислам был уже господствующей религией в Африке. При благочестивом Омаре II он быстро распространился, и древний хронист даже заявил, что при Омаре не осталось ни одного бербера, который не был бы мусульманином. Это утверждение не покажется преувеличенным, если мы вспомним, что обращения не были всецело стихийными и корысть играла важную роль в их осуществлении. В глазах Омара распространение веры было главной целью его жизни. Он использовал все средства, чтобы увеличить количество прозелитов. Новообращенному достаточно было произнести слова: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его», чтобы получить освобождение от подушного налога, и от него даже не требовалось строго соблюдать все заповеди ислама. Правитель Хорасана как-то раз пожаловался в письме Омару, что многие люди якобы приняли веру, но сделали это, чтобы получить освобождение от налога, и они даже не совершили обрезание. На это халиф просто ответил, что Бог послал Мухаммеда на землю, чтобы вести людей к истинной вере, а не чтобы выполнять обрезание. Омар смотрел в будущее. Под пышной растительностью он видел богатую плодородную землю, в которой семена Божественного мира прорастут и дадут плоды. Он предвидел, что, если новообращенных мусульман и можно упрекнуть в равнодушии к вере, их сыновья и внуки, рожденные и воспитанные в исламе, однажды превзойдут в рвении и приверженности тех, кто однажды сомневался в традиционной вере их отцов.
История подтвердила его правоту, особенно с африканцами. Ислам, отталкивающий и даже одиозный вначале, постепенно делался терпимым и в конечном итоге стал для них всем. Но эта религия, как они ее понимали, не была холодной официальной верой, скучным компромиссом между деизмом и скептицизмом. Миссионеры проповедовали ее без рвения, много говоря об обязанностях подданных по отношению к халифу и ничего – об обязанностях халифа по отношению к ним. Вера берберов была суровой и страстной религией, которую проповедовали им хариджиты. Нонконформисты, на которых на Востоке открыли настоящую охоту, как на оленей, и они были вынуждены всячески маскироваться, чтобы избежать поимки (о странных приключениях хариджитского поэта Имрана ибн Хиттана), наконец отыскали убежище в горячих песках Африки, где с тех пор проповедовали свои идеи с небывалым успехом. Еще нигде эти ревностные и убежденные учителя не находили такую восприимчивую, благодарную аудиторию. Кальвинисты ислама наконец нашли свою Шотландию. Арабы отвергали их доктрины, но не потому, что они были противны их политическим принципам – наоборот, они вполне согласовывались с республиканскими инстинктами расы. Но, во-первых, они вообще не относились к религии серьезно, а во-вторых, для них был неприемлем нетерпимый пуританизм, которым отличались сектанты. С другой стороны, обитатели убогих африканских хижин принимали их учения с неподдельным энтузиазмом. Эти простые и невежественные люди ничего не понимали в спекуляциях и догматических тонкостях – источниках наслаждения для более изощренных умов. Поэтому бесполезно разбираться, какой именно секте эти люди отдавали предпочтение: были они харуритами, софритами или ибадитами – у хронистов нет единого мнения на этот счет. В любом случае берберы достаточно хорошо поняли хариджитские доктрины, чтобы усвоить их революционные и демократические принципы, разделить фантастические надежды на всеобщее уравнивание, пробужденные их учителями. Заодно они убедились, что их угнетатели – нечестивцы, удел которых – адский огонь.
