История России. С древнейших времен до наших дней
Text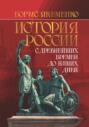


Go to audiobook
- Size: 1620 pp. 7 illustrations
- Genre: Historical literature, popular history
Именно поэтому Куликовская битва была воспета во множестве сказаний, повестей, стихов и песен, и ничто никогда уже не могло изгладить память о ней из народного сердца. Воплотилась она в храмах и монастырях: под Коломной воеводой Боброком в память о ней поставлен Бобренев монастырь, а преподобным Сергием там же основан Старо-Голутвинский монастырь. В столице же в начале улицы Солянки, по которой уходили из города княжеские войска, возведен небольшой деревянный храм Всех Святых на Кулишках. Перестроенный в XVII веке в камне, он и в наши дни украшает Славянскую площадь, возвращая мыслями нас к той скорби и радости, что испытала наша столица шесть веков назад. На улице Рождественке матерью Владимира Андреевича Храброго был поставлен в память о победе Рождественский монастырь.
Московское княжество и его соседи в конце XIV–XV веке
Москва в конце XIV столетия
Но торжествовать окончательную победу было рано. В 1382 году под стенами Москвы внезапно появились отряды монгольского хана Тохтамыша, союзника Мамая. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о приближении монголов, ушел на север, в Кострому, собирать войска, поскольку большие потери на Куликовом поле обескровили московские земли. Князь надеялся, что столица, укрепленная новыми белокаменными стенами, сумеет устоять. Поэтому в Москве остались и его семья, и престарелый московский митрополит Киприан. Однако москвичи забыли наказ великого князя Симеона Гордого «жить заодно», и в городе поднялся мятеж. Еле выпущенные народом, совершенно ограбленные, первосвятитель и супруга князя покинули город, в котором не утихали споры и распри. Одни москвичи готовились защищать Белокаменную, а другие «недобрые человецы» гуляли и упивались вином и медом. Однако, когда начался монгольский штурм, защитники города вместе яростно отбивали атаки врага. Именно в дни этой памятной обороны и заговорили с московских стен первые деревянные русские пушки – «тюфяки», стрелявшие каменными ядрами. Поэтому 1382 год считается годом рождения русской артиллерии.
Четыре дня длился бой. С радостью глядели москвичи на новые стены и говорили между собой: «Имеет бо град камень тверд и врата железна: и не терпят татарове стояти под градом нашим долго». Наконец завоеватели отступили в свой лагерь. Москвичи возликовали. Но радость была преждевременной. На смену мятежу пришло предательство. Нижегородские князья, пришедшие вместе с Тохтамышем, обойденные в свое время Дмитрием и таившие на него злобу, уговорили москвичей поверить ханским послам и принять их просьбу с честью встретить их господина и прислать ему легкие дары: «Хощет бо сей град видети и в нем быти, а всем вам дает мир да любовь». Отворили москвичи Фроловские ворота, вышли с крестным ходом, возглавляемым воеводой князем Остеем и лучшими людьми и изведали, что значат вражеские «мир да любовь». Вмиг истребили монголы безоружных людей, ворвались в город «и начаша без милости сещи… оных изсекоша, а других плениша и церкви разграбиша… и богатство и имение казны княжеския взяша…». Было убито 24 тысячи человек, сожжены тысячи книг, которые свезли из окрестных городов и сложили «до сводов» в московских храмах. Давно не переживала Москва такого нашествия.
Казалось, Москва погибла: сожжена, разграблена, москвичи изрублены, сгорели, потонули в реке, когда пытались спастись, цветущий город в одночасье превратился в пустыню; казалось, что ему грозит участь многих городов прежней Руси, погубленных монголами. Но нет – с этих пор радость Куликовской победы, словно живая вода, каждый раз возрождает из небытия Москву после любого нашествия. По словам И. Е. Забелина, «вокруг Москвы-города уже существовала Москва-народ, именно та сила, которая впоследствии заставила именовать и все народившееся государство – Москвою, Московским государством… И вот теперь, когда город разорен до запустения, его быстро восстановляет, обновляет и снова заселяет Москва-народ».
О том, что Москва восстанавливалась с чудесной быстротой, говорит и замечание летописца, оставленное в 1391 году, когда, упоминая об очередном пожаре, древний русский книжник исчисляет число сгоревших дворов «тысячами». Значит, всего через девять лет после Тохтамыша в Москве дворы считают уже тысячами – так велика притягательная сила места, так крепки внутренним смыслом и полны материального значения для народа те условия, которые создали город Москву и заставляли ее существовать даже после бед, не раз стиравших ее с лица земли.
В 1389 году великий князь Дмитрий Донской скончался – ему было только 39 лет. Перед смертью он передал своему старшему сыну Василию I Дмитриевичу (1389–1425) по завещанию великое княжение владимирское как «отчину» московских князей, не признавая больше тем самым право монгольского хана распоряжаться ею. Это означало завершение процесса слияния Владимирского княжества с Московским и связанного с ним «старейшего» на Руси княжеского титула с московским. Примечательно, что впервые в истории в некоторых документах князя Дмитрия Донского начинают именовать «царем». В своем завещании Дмитрий выразил надежду на скорое, полное освобождение из-под владычества Орды.
Наступил 1395 год, принесший скорбную весть: великий и страшный «железный хромец» Тамерлан (Тимур, Темир Аксак) обратил свои взоры на Русь. Будучи мелким монгольским князьком, Тамерлан терпел в юные годы различные испытания и невзгоды, которые закаляли его дух и утверждали в нем мечты о великой славе и повторении времен Чингисхана. В 1352 году все состояние Тамерлана, укрывавшегося в пустыне от врагов, заключалось в тощем коне и дряхлом верблюде, а несколько лет спустя благодаря своим удивительным военным и государственным дарованиям, соединенным с бесчеловечной кровожадностью, он был уже повелителем двадцати держав в трех частях света – Азии, Европе и Африке. Именно благодаря Тамерлану занял после Мамая престол в Золотой Орде Тохтамыш. Однако он вскоре решил отделиться от своего благодетеля и был сурово наказан: дважды наголову разгромлен безжалостным Тимуром. После последней битвы Тамерлан, закончив преследование Тохтамыша у самой Волги и посадив нового хана в Орде, вдруг продолжил наступление на север и, перейдя Волгу, вступил в юго-восточные пределы Руси.
Быстро двигались полчища Тамерлана и, войдя в границы Рязанского княжества, стали на Дону около Ельца, откуда было несколько дней пути до Москвы. Великий князь Василий, сын Дмитрия Донского, спешно двинулся с войсками к Коломне, в то время как москвичи обратили свои взоры к Матери Божией. Во Владимир послали за знаменитым образом Богоматери, привезенным туда из-под Киева еще Андреем Боголюбским, и через несколько дней москвичи торжественным крестным ходом встречали икону в районе Кучкова поля. «И сретоша далече за градом, – рассказывает летописец, – и яко узреша Пречюдный образ Богоматери и на пречистых ея дланех Пречистый Образ Иисус Христов и вси падоша на землю и с многосугубыми слезами из сердца вздыхающе и моляше прилежно».
Не успело утихнуть волнение после обретения чудотворного образа, как вскоре пришла радостная весть: Тамерлан ушел. Просто, без всякой видимой причины повернул и ушел в степь. Радости москвичей не было предела. Сохранившееся церковное предание сообщает нам, что Тамерлану во сне было страшное видение: огромное воинство, облаченное в доспехи, а во главе его Богоматерь, которая, грозя, запретила приближаться к городу. Мудрецы хана подтвердили это видение, и Тимур повернул назад. Историческая же версия склоняется к тому, что в державе Тамерлана назрело восстание и он, боясь потерять власть, вынужден был вернуться. Как бы там ни было, но в «Уложении Тимура», написанном самим Тимуром, где он перечисляет все свои походы и победы, нет упоминания о походе на Москву. Возможно, самому Тимуру не хотелось вспоминать об этой неудаче.
Так Москва стала территориальным центром складывающегося Русского государства. С этого времени в его формировании прослеживаются два процесса: централизация и концентрация власти в руках великого князя внутри Московского княжества и присоединение к Москве новых земель, принявшее в скором времени характер и значение государственного объединения.
Русь и Литва
В первой половине XIII века на территории по нижнему течению Западной Двины, по Неману, в области Нижней Вислы и по берегам Балтийского моря, где обитали литовские племена, возникло Литовское государство. Миндовг был первым князем, который начал объединять литовские племена, за что и был убит своими противниками в 1263 году. Его преемники продолжили политику централизации, и основные события истории тех территорий разворачиваются в XIV веке, когда литовскими князьями становятся Гедимин (1316–1341) и его сыновья Ольгерд и Кейстут. Обычно упоминают только Ольгерда, но братья правили вместе.
В результате нашествия монголов Киев и Киевская земля почти перестали существовать как город и княжество. Путешественник Плано Карпини, побывавший в Киеве после нашествия монголов, писал, что в нем можно было насчитать максимум 200 дворов (в то время как до монголов в нем жило более 100 тысяч человек). Судьба соседних с ним городов была точно такой же.
Борьба Даниила Галицкого с монголами привела его к поражению, поэтому территория княжества стала «проходным двором» для монгольских армий, которые шли на запад, в Польшу, и так же возвращались обратно. На протяжении нескольких десятков лет города и села Южной Руси не имели возможности оправиться от монгольского поражения. В результате к концу XIII столетия на огромном пространстве в среднем течении Днепра (южнее Смоленска, до Киева и далее) население было почти полностью выбито, а те, кто выжил, стремились уйти на северо-восток, где оседали навсегда, поскольку за густыми и непроходимыми лесами было безопаснее.
Постепенно на этих запустевших киевских землях начинает закрепляться Литва. Литовцы проникают на эти территории в конце XIII столетия. При Гедимине в состав Литовского княжества уже входят Полоцкая, Витебская, Минская земли (первая половина XIV века), а Ольгерд, его сын (1345–1377), захватывает Волынь, Киевскую, Новгород-Северскую земли, а на Верхней Волге доходит до Ржева. Вот почему в течение долгого времени русская западная граница проходила по линии Псков – Ржев – Смоленск – Брянск. За этой линией была уже территория Литвы.
В XIV веке Древняя Русь окончательно распалась на Южную и Северо-Восточную. Северо-Восточная Русь существовала самостоятельно и стала впоследствии ядром Русского централизованного государства. Южная Русь уже в XIV столетии стала достоянием Литвы и Польши. К концу XIV века власть Литвы распространялась на территорию Белоруссии, Брянскую, Черниговскую, Северскую, Подольскую земли. В 1395 году литовцами был захвачен Смоленск.
Отношения между Литвой и Москвой никогда не были ровными. В 1368 и 1370 годах литовский князь Ольгерд совершил два похода на Москву, но не сумел взять новых каменных стен Кремля. Наиболее тесными русско-литовские отношения были в княжение Витовта. Он был православным и женат на дочери тверского князя. Опираясь на союз с московским князем Василием I, который был закреплен женитьбой последнего на дочери Витовта Софье, он вел борьбу с Польшей, и ему удалось временно отстоять независимость Литвы. Несмотря на двухлетнюю войну между Витовтом и Василием I из-за Пскова, в целом отношения между Московским княжеством и Литвой в этот период носили мирный характер. После смерти Витовта в 1430 году междоусобная война привела к тому, что с 1440 года литовский великокняжеский престол занимают потомки Ягайло, бывшие одновременно и королями Польши. Рост польского влияния и насаждение католицизма привели к переходу вассальных русских княжеств под покровительство окрепшего Московского государства. Этот процесс усилился к концу XV – началу XVI века, что вызвало несколько войн: в 90-х годах XV века, в 1500–1503 и 1507–1508 годах.
Династическая война второй четверти XV столетия
К концу княжения сына Дмитрия Донского Василия I Дмитриевича (1389–1425) сила московских правителей превосходила силу и значение остальных русских князей. Укреплению Московского государства способствовала внутренняя стабильность: начиная с князя Даниила до 1425 года внутри Московского княжества не произошло ни одного междоусобного столкновения. Первой и последней московской усобицей стала династическая (ее принято также называть феодальной) война второй четверти XV века, связанная с установлением порядка престолонаследия в Московском княжестве. Согласно духовному завещанию Дмитрия Донского, Московское княжество было разделено на уделы между его сыновьями. Великое княжение было завещано старшему сыну Василию I. Второму сыну, Юрию, достались Галицкое княжество (район Костромы) и Звенигород. Князя Юрия обычно знают только как соперника московского князя Василия II Темного, что бросает на него некоторую тень. Однако за политической деятельностью Юрия нельзя забывать, что он был человеком очень высокой культуры, его окружали люди, являющиеся и в наши дни образцами христианской жизни. Его крестил преподобный Сергий Радонежский, и князь стал его духовным чадом. Основам христианской премудрости его учили преподобные Кирилл Белозерский и Никон Радонежский. Князь Юрий дружил и с преподобным Андреем Рублевым – величайшим русским иконописцем. Именно по инициативе князя был основан Саввино-Сторожевский монастырь рядом со Звенигородом и выстроен в нем каменный собор. Он явился строителем еще двух замечательных памятников, сохранившихся до нашего времени, – Успенского собора на Городке и Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре.
После смерти Василия I Дмитриевича возник династический кризис. Претендентами на престол выступили его десятилетний сын Василий II, которого поддерживало московское боярство и мать – великая княгиня Софья Витовтовна (они обосновывали свои претензии сложившейся со времен Ивана Калиты традицией передачи московского престола от отца к сыну), и князь Юрий Дмитриевич, ссылавшийся на традиционный принцип наследования старшим в роду и завещание Дмитрия Донского. Он чисто формально интерпретировал одну строку завещания Дмитрия Донского, в котором говорилось о наследнике престола: «А по грехам отымет Бог сына моего князя Василия, а хто будет под тем сын мой, ино тому сну моему княжь Васильев удел».
Если эту фразу понимать буквально, то получалось следующее: умирает Василий Дмитриевич, и все наследует его брат Юрий. Однако Дмитрий Донской говорил лишь о том, что если его старший сын Василий умрет бездетным, тогда все получит следующий брат. По-другому и быть не могло, поскольку такая система престолонаследия в Москве была уже традицией. Так получил московский стол отец Дмитрия Донского Иван. Начиная с Даниила Московского и его детей стол передавался по нисходящей прямой линии: от отца сыну. И только тогда мог наследовать родной брат великое княжение, если князь умирал бездетным.
Таким образом Юрий Дмитриевич попытался восстановить древнюю традицию. Однако ни московское боярство, ни духовенство во главе с митрополитом не поддержали его. И несмотря на то что сопернику Юрия Дмитриевича, его племяннику Василию, было только 10 лет, когда умер его отец (1425), он становится великим князем московским. Юрий был в ярости, но в открытый конфликт вступить не решился: за Василием стоял его опекун, дед, великий литовский князь Витовт. Князь Юрий был вынужден с этим считаться, но не выразить своего неприятия Василию он не смог и, отказавшись присягнуть новому московскому князю, уехал в Галич, где стал собирать войска. В Москве были встревожены, и в Галич для уговоров строптивого князя был направлен московский митрополит. Однако все его попытки убедить Юрия подчиниться не имели успеха, и глава церкви отправился из Галича в Москву, не дав городу своего благословения. Однако далеко отъехать он не успел, в городе началась страшная эпидемия, которую жители восприняли как Божие наказание за отступничество своего князя. Назревал бунт, Юрий послал гонца вслед митрополиту, и тот вернулся, чтобы принять присягу у смирившегося Юрия.
В 1430 году великий литовский князь Витовт умер. Василий лишился своего защитника и покровителя, и князь Юрий начал настаивать на поездке в Орду для разрешения конфликта. В 1432 году соперничающие князья отправились к монгольскому хану, чтобы он поставил последнюю точку в их споре. Эта поездка стала последним в истории Руси визитом русских князей в Орду. Юный, неграмотный и неопытный Василий взял с собой искушенного в интригах, хитрого и изворотливого боярина Ивана Всеволожского, который обещал уладить дело с помощью красноречия и большой суммы денег. За свою помощь боярин потребовал родства с великим князем: Василий должен был жениться на его дочери. Василий дал обещание, и Всеволожский сумел достичь цели: ярлык был выдан Василию II, а Юрия хан пожелал унизить, заставив вести под уздцы лошадь, на которой сидел Василий, однако последний не захотел такого позора для своего дяди.
Свадьба была назначена на следующий, 1433 год, однако не состоялась. Вернувшись в Москву великим князем, Василий отказался от всех своих обещаний, и его избранницей стала внучка князя Владимира Андреевича Храброго. Оскорбленный до глубины души Всеволожский немедленно изменил Василию и уехал к его противнику князю Юрию в Галич. Опасное затишье вскоре должно было смениться бурей. Поводом к началу военных действий стал конфликт, случившийся на злополучной свадьбе.
На праздник в Москву были приглашены двоюродные братья московского князя, сыновья Юрия – Василий Косой и Дмитрий Шемяка. В разгар торжеств некий боярин, усмотрев на Василии Косом красивый, богато расшитый пояс, рассказал историю о том, что, когда еще Дмитрий Иванович женился на дочери суздальского князя, он получил от отца невесты в подарок два пояса: один предназначался самому Дмитрию, а другой – московскому тысяцкому. Вскоре пояс Дмитрия был украден и оказался в семье этого тысяцкого, а потом, переходя из рук в руки, в конце концов оказался на Василии Косом. Возможно, эта история была придумана специально для провокации конфликта.
Софья Витовтовна, мать великого князя Василия, волевая и резкая женщина, не смогла этого стерпеть. Подойдя к Василию Косому, она громко обвинила его в краже семейной реликвии, а затем резко сорвала пояс. Большего оскорбления в то время, возможно, нельзя было нанести князю, поскольку княжеские пояса были не просто предметом одежды, а символом власти и княжеского достоинства. Они хранились в казне и переходили по наследству веками: в каждом духовном завещании обязательно указывалось количество поясов и их внешний вид. Так, у Ивана Калиты было 10 драгоценных поясов, у Ивана Красного – 4, у Дмитрия Донского – 8 поясов. Сыновья великих князей получали в наследство не только удел, но и драгоценности, среди которых обязательно был и золотой пояс. Неудивительно, что после такого оскорбления Василий Косой тут же со своим братом уехал в Звенигород, и через несколько недель вспыхнула война.
Следует отметить, что ход этой войны, ее детали не могут не вызвать удивления: почти не было битвы, стычки, осады, в которой не потерпел бы поражения великий московский князь Василий Васильевич. Однако, несмотря на то что он проиграл почти все битвы, был захвачен в плен, отрекался от московского великого княжения в пользу своих соперников, успел даже побывать в монгольском плену и, наконец, был ослеплен в 1446 году, все равно из этой войны он вышел победителем.
В 1433 году Юрий разбил войска Василия и захватил Москву. Но утвердиться здесь ему не удалось из-за враждебного отношения московского боярства и горожан. Василий был сослан в Коломну, куда вскоре вслед за своим князем переместилось почти все московское население. В Москве улицы были пусты, в то время как в Коломне нельзя было проехать из-за обилия телег. Такая верность москвичей своему князю неудивительна: им были не столько важны личные достоинства князя, сколько тот порядок, благодаря которому Москва и стала Москвой. Залогом сохранения же этого порядка был князь.
Юрий вскоре понял, что проиграл без ведения боевых действий, и, добровольно покинув Москву, уехал в Галич. Василий вернулся на престол, однако торжество было недолгим: на следующий год Юрий снова захватил Москву, но через два с половиной месяца умер.
После смерти Юрия борьбу за московский стол продолжили Василий Косой и Дмитрий Шемяка, не имевшие никаких прав на престол. Успех первоначально сопутствовал Василию II. В 1436 году, разгромив Дмитрия Шемяку, Василий II сослал его в ту же Коломну, где некогда был сам, под строгое наблюдение наместника Ивана Старкова. Затем было велено его «из железа выпустити, а быти простому на Коломне». Вскоре была одержана победа московского князя над Василием Косым: последний был захвачен в плен и вскоре ослеплен. После этого Василий II «посла по князя Дмитреа на Коломну и пожаловал его», так как Дмитрий не был теперь ему опасен. 13 июня 1436 года князья заключили между собой мирный договор, в качестве гаранта которого Шемяка стал владеть «Коломною с волостьми». Это было знаком особого расположения Василия II к вчерашнему противнику и в то же время его большой ошибкой, за которую через десять лет Василию II пришлось дорого заплатить.
Внутренними трудностями в Московском княжестве воспользовалась Орда. В 1445 году хан Улу-Мухаммед совершил набег на Русь. Войско Василия II, встретившись с ханом на реке Нерли неподалеку от Суздаля, потерпело поражение, а сам великий князь, тяжело израненный, попал в плен. Дети Улу-Мухаммеда, царевичи Мамутек и Якуб, два дня отдыхали в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре, «зло посмеявшись» над плененным князем. Сняв с него золотые кресты, монголы в знак своего торжества отправили их в Москву матери и супруге Василия II.
Поражением Василия II воспользовался Дмитрий Шемяка, предложив монгольскому хану вечно держать в плену Василия, за что обещал, заняв московский престол, перейти под покровительство хана. Однако монголы предпочли отпустить Василия из плена за значительный выкуп – 20 тысяч рублей, тяжесть которого, а также насилия прибывших для сбора этого выкупа монголов лишили Василия поддержки со стороны горожан и служилых людей Москвы. В Москве ходили слухи, что князь отпущен на условиях подчинения Москвы Орде, на чем умело играл Дмитрий Шемяка. Наконец он решил, что время для решающего удара настало.
В феврале 1446 года Василий II, ничего не зная о замыслах двоюродного брата, находился на богомолье в Троице-Сергиевом монастыре. Неожиданно к нему прибежали караульные и сказали, что к монастырю скачут люди Дмитрия Шемяки. Василий сначала не верил, а когда угроза стала совершенно явной, бросился на конюшню. Однако ни одной лошади там не оказалось, и князь помчался в собор, к мощам преподобного Сергия в надежде, что святое место не позволит его врагам совершить над ним насилие, и встал у мощей, заслонившись иконой. Однако это не помогло. Василия выволокли из собора, бросили в сани и повезли в Москву, где через несколько дней он был ослеплен (поэтому и получил впоследствии прозвище Темный). Город перешел в руки Шемяки.
После этого политическая карьера Василия II должна была завершиться: править государством, будучи слепым, невозможно. Однако вышло иначе. Вскоре после ослепления князя сослали в Углич, дав в удел Вологду, а также заставили подписать «проклятые грамоты». Подписав их, Василий Темный отрекался от престола и в случае нарушения клятвы должен был быть проклят Богом и потомством. Но это не помогло Дмитрию. Захватив вожделенный княжеский престол, он так и не сумел добиться поддержки большинства населения и боярства. Он был узурпатором, он не был своим – и этим было все сказано.
Суд, учрежденный Шемякой (а княжеский суд был последней надеждой многих людей), был настолько неправеден, что родилась поговорка «Шемякин суд», дожившая до нашего времени. Был продолжен сбор денег для выплаты дани монголам. Когда же Шемяка заговорил о восстановлении независимости Суздальско-Нижегородского княжества, Москва заволновалась: ведь обещания сохранения защиты новгородской независимости представляли собой подрыв дела создания единого государства. Все были единодушны в стремлении отстаивать московский порядок и своего князя, сознавая в этом собственную силу. И москвичи вновь обращаются к Василию II, которого поддержал и тверской великий князь Борис Александрович.
Однако Василий не мог откликнуться на призывы москвичей. Верность своему слову и Богу в то время была выше политических амбиций: ведь никто не отменял «проклятых грамот». Тогда к нему в Вологду отправился игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон, который уговорил его возвратиться в Москву, обещая «проклятье Божие и потомства» взять на себя и отмолить. Окруженный верными людьми, Василий II в 1446 году возвращается в Москву и вступает в нее без боя как победитель. Борьба подходила к концу. Бежавший из Москвы Дмитрий Шемяка держался некоторое время под Костромой, откуда после разгрома отправился в Новгород, тогда еще независимый, где ему дали приют. Однако Василий II не забывал нанесенных обид. Прошло несколько лет, и в 1453 году туда прибыл с особой миссией московский дьяк Степан Бородатый. Помимо прочих служебных дел он имел разговор с одним из новгородских бояр, у которого вскоре должен был пировать на званом обеде Дмитрий Шемяка. Отведав на этом званом обеде жареную курицу, Шемяка скончался. Специальный гонец был послан в Москву с известием и тут же произведен в дьяки. Этот факт говорит о том, что гибель Дмитрия Шемяки, скорее всего, была не случайной.
Значение династической войны можно оценивать по-разному. В лице Василия Темного и Юрия Звенигородского (с сыновьями) столкнулись две силы, две партии – сторонников решительной централизации и сторонников старой удельной системы, уходившей в прошлое. Такие процессы никогда не проходят безболезненно, и данная война стала своего рода государственным «недугом», после которого удельная система была окончательно обречена. Москва к началу XV века уже настолько явно становится центром Русской земли, а идеи централизации настолько овладели умами и сердцами русского общества, что даже самая бездарная политика московского князя не могла остановить или задержать этого неуклонно развивающегося процесса. Следствием противостояния было окончательное утверждение принципа наследования власти по прямой нисходящей линии от отца к сыну. Чтобы избежать усобиц в дальнейшем, московские князья, начиная с Василия Темного, выделяют старшим сыновьям наряду с титулом великого князя более крупную часть наследства, обеспечивая их превосходство над младшими братьями.
Для лучшего понимания, почему среди князей столь часто вспыхивали споры из-за наследства, необходимо рассмотреть схему наследования имущества, установившуюся в Московской Руси. Известно, что преемство владения в Московском княжестве определяла личная воля князя-собственника. Эта воля высказывалась каждым князем в его духовной грамоте – личном завещании, которых дошло до нас шестнадцать. По ним наследниками московских князей прежде всего являются сыновья завещателя, за отсутствием сыновей – его братья, потом жены и дочери. Вотчина завещателя не делилась между наследниками на определенные сплошные пространства, а каждому наследнику выкраивалась отдельная доля из каждой части владения, части же эти обозначались или постепенностью приобретения, или доходностью.
В духовной грамоте Дмитрия Донского части, на которые, в его представлении, распадалась его вотчина, обозначены в таком порядке: город Москва, дворцовые подмосковные села, дворцовые села в чужих, не московских уделах и в великокняжеской области Владимирской, другие старинные владения московские, приобретения отца, дядей и деда и, наконец, позднейшие приобретения самого завещателя и близкие по времени приобретения его отца и дяди. Каждый наследник получал особую долю в каждом из этих разрядов московских владений, особый жребий в городе Пскове и в подмосковных селах, особый – в старинных московских владениях и особый – в новых приобретениях.
В результате такого разделения получалась невероятная чересполосица княжеского владения, а следовательно, готовая почва для всякого рода столкновений, недоразумений, споров и ссор. Каждый князь-сонаследник, вступив во владение завещанными ему долями, становился полным хозяином доставшегося ему удела. «Тебе знати моя отчина, а мне знати своя отчина», – как говорили размежевавшиеся между собой наследники. Между собой они заключали договоры, определявшие их взаимные отношения. Они обязывались не вмешиваться в удельные дела друг друга, не могли без разрешения владельца приобретать земли в чужом уделе, проехать через его владения на охоту. Если один князь владел селами в области другого, то мог собирать с них только хозяйственный оброк, а по суду и податям эти села определялись к владельцу удела.
Таким образом, удельные князья-сонаследники, сыновья одного отца, получив каждый свою долю, становились самостоятельными, независимыми один от другого владетелями. Однако кругом было много врагов, князей-владетелей, далеких по родству от данной группы, и князья – ближайшие родичи должны были крепко держаться один за другого, чтобы обезопасить себя от захватнических стремлений со стороны чужаков-соседей. Повинуясь завету отца, младшие удельные князья обязывались чтить старшего вместо отца, а старший обязывался не обижать младших братьев и заботиться об их детях, если они осиротеют. Великий князь обязывался не заключать договоров без ведома младших, и наоборот. Враги и друзья должны были быть общие. «Пойду я в поход, – говорилось в договоре от лица старшего, – и вам садиться на коней, когда я сам не пойду, а вас пошлю, вам идти без ослушания».
Но в силу обстоятельств, таких как зависимость от Орды, экономическая сила старшего князя, младшим родичам все меньше приходилось ощущать на деле свою самостоятельность. В Москве со времен Ивана Калиты определяется явное стремление князей-завещателей делить свою вотчину так, чтобы размеры долей соответствовали степени старшинства наследника, получавшего данную долю. Старший брат, чтобы с честью и властью нести свое старшинство, должен был быть сильнее остальных наследников. Сначала этот излишек был невелик, но со временем он получает значительные размеры.
В руках старшего наследника сосредоточивалось в результате столько средств, а следовательно, и силы, что младшие родичи оказывались всецело под рукой великого князя и теряли всякую возможность выйти из-под его власти.
