XX век как жизнь. Воспоминания
Text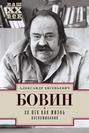


Go to audiobook
- Size: 920 pp. 18 illustrations
- Genre: Biographies and memoirs, Nonfiction
Ближе к середине октября мы почувствовали, что начальство стало терять к нам интерес. Телефоны звонили все реже и реже. А потом и вовсе замолчали. Что-то происходило… Решили выслать разведку. Сейчас уж не помню: то ли Федя Бурлацкий поехал в Москву, то ли Николай Николаевич Иноземцев. Получаем сообщение: «Бьют по верхам!» Едем в Москву.
Уже в Москве узнаем о пленуме ЦК и снятии Хрущева. Вечером 14 октября в цековских коридорах, как всегда, тихо. Только задумчиво прогуливались рослые молодые люди (не зря Семичастный зарплату получает!).
Если говорить по существу, то Хрущева сняли правильно, за дело. XX съезд был вершиной его политического творчества. И не просто вершиной, а одним из Эверестов истории XX века. Но мало кто способен долго пробыть на вершине. Менее чем за десять лет Хрущев исчерпал свой позитивный ресурс. Стал делать глупости (ракеты на Кубе, разделение партии на городскую и деревенскую и т. п.). И стал превращаться в памятник самому себе. Точнее: не мешал другим превращать себя в памятник самому себе.
Беда в том, что Хрущева снимали люди более мелкого калибра. Хрущев мешал им жить спокойно. Хрущев дестабилизировал их. Не систему, но каждого. И поплатился за это.
Но Хрущева не ославили как «врага народа». Он остался жив. Получил пенсию, дачу и государственный кошт. Реформируя партию, страну, Хрущев спас себя и тех, кто пойдет за ним. Домашний арест? Да, его боялись даже снятого. Но тенденция – от захвата власти к демократической смене власти – набирала силу. Что и доказала судьба Горбачева.
– Почему после доклада Суслова не было прений? – спросил я у Андропова.
– А ты не посчитал, сколько членов пленума были назначены уже при Хрущеве? – так ответил Андропов…
Это к вопросу об относительности демократии.
Смена партийного лидера в Советском Союзе вызвала бурную реакцию в братских странах и коммунистическом движении. Мне было поручено обобщить материал. Бумага у меня сохранилась, она датирована 29.Х.64 года. Читать ее сегодня трудно по причине партийно-кондового языка, который часто скрывает проблемы, вместо того чтобы выявлять их. В данном случае суть дела, если убрать дымовую завесу формулировок, можно было бы свести к двум тезисам.
1. На одном полюсе «международного коммунистического и рабочего движения» нажимали на недемократические методы смещения Хрущева и настаивали на подтверждении «линии XX и XXII съездов КПСС».
2. На другом полюсе выражали надежду, что уход Хрущева означает крах «ревизионистского курса КПСС» и ее сближение со сталинистской политикой Мао Цзэдуна.
В обоих случаях новое руководство КПСС – вполне «двух полюсное» по составу и настроениям – не было готово к откровенному разговору. Я понимал это, но все-таки надеялся на то, что в суматохе после пленума мои изыскания дойдут до начальства.
Не дошли.
По каким-то аппаратным соображениям первым читателем был Кусков. Читал внимательно. Реагировал выражением своей и без того выразительной физиономии. А на словах сообщил мне то, что он обычно в пьяном виде говорил Шахназарову: «Стратег ты блестящий, но тактик х…ый».
В общем, не решились расстраивать начальство.
Андропов, которому я все-таки через какое-то время показал свой opus, изрек: «Молодец Кусков!»
Характерный эпизод. Кадар прислал Нине Петровне Хрущевой красивую корзину с очень красивыми (и, думаю, очень вкусными) яблоками. Так, пока перепуганные чиновники решали – передавать или не передавать, яблоки пришли в негодность.
Параллельно с тревогами партийно-государственными в нашей консультантской группе были тревоги свои. Защита Бурлацким докторской диссертации была назначена на 16 октября. Тема, кажется, «Государство и коммунизм» или что-то около. Отпевание диктатуры пролетариата и воспевание общенародного государства. Цитаты Хрущева сплошь и рядом. И вдруг – цитат не стало. Слова остались, фразы есть, но цитат нет. Ибо Хрущев утратил статус цитатопроизводителя.
Что делать? Многие советовали отложить защиту. Но Федор рискнул. И победил. Не все члены ученого совета струсили. И не только победил, но и сэкономил. Традиционная большая пьянка была отменена. Гуляли консультанты. А их немного.
Прежде чем перейти к Брежневу, еще немного о Бурлацком.
Именно Феде принадлежит идея легализовать у нас политическую науку. Ситуация была парадоксальной. Марксистско-ленинская идеология была самой политизированной. Но в отличие от «западного мира» в нашем мире не признавалось существование политической науки как особой, специфической, имеющей свое содержание научной дисциплины. Бурлацкий первым, насколько мне известно, сообразил, что это обедняет нашу идеологию, нашу общественную науку.
Первой ласточкой была статья Бурлацкого «Политика и наука» в «Правде» от 10 января 1965 года. Я шел вторым эшелоном. Моя статья появилась в «Красной звезде» 10 февраля. Противников было много. Главный аргумент – марксизм-ленинизм и есть наша марксистско-ленинская политическая наука, наша политическая теория. Сопротивлялись долго.
В конце 1965 года мы (то есть Федя и я) решили сделать ход конем, опубликоваться в «Коммунисте». Написали статью «Актуальные проблемы социально-политических исследований». Статья обсуждалась на редколлегии в декабре. Статью завалили. Зачем нам какая-то «политическая наука» (или «политическая теория», или «политическая идеология»)?
В конце концов поняли «зачем». Бурлацкий победил…
Сразу же после пленума завертелась работа вокруг речи Брежнева 6 ноября. Так сказать, презентация нового первого секретаря. Андропову было поручено заниматься внутренней политикой. Поскольку политика еще не определилась, отделывались общими словами. Правда, возникла одна конкретная идея: воспользоваться случаем и поставить вопрос о необходимости изъять из Программы КПСС цифровые материалы об экономике страны и ходе соревнования с капитализмом. Андропов в принципе не возражал. Долго крутили разные формулировки, прямо на свет их рассматривали, но пробиться не смогли.
Во время работы над речью состоялось мое знакомство с Брежневым. Я читал текст, он слушал.
– Ты знаешь, что такое «боровая дичь»?
– Примерно…
– Давай сделаем так. Я тебе растолкую про боровую дичь, а ты объясни мне толком, что такое «конфронтация». Договорились?
– Договорились.
Характерно для Брежнева. Он не стеснялся сказать, что он чего-то не знает или не понимает. Умел слушать.
Главное событие ноябрьских праздников – появление Чжоу Эньлая на праздновании 47-й годовщины Октябрьской революции. Китайцы, видимо, всерьез решили, что новое руководство развернется в сторону Пекина. Отсюда – разведка боем. Основным собеседником Чжоу Эньлая был Микоян. Китайский премьер нажимал на необходимость отказа от «трех мирных» (напоминаю: «мирный переход», «мирное сосуществование», «мирное соревнование»), пересмотра Программы КПСС. Микоян мужественно отбивался. Разошлись на нулях. Взаимопонимание не улучшилось, но и не ухудшилось.
Ухудшилось оно вечером 6-го на приеме в Кремле. К Чжоу Эньлаю подошел изрядно принявший маршал Малиновский.
– Мы свою старую калошу скинули, и вы свою уберите. Полный порядок будет!
Кажется, Чжоу Эньлай не нашел слов для ответа и покинул прием. Потом, через много лет, китайцы говорили мне, что Малиновский обращался не к Чжоу Эньлаю, а к маршалу Хэ Луну. Но это мало что меняет.
Может быть, оно и к лучшему, что китайцы взбрыкнули. Иллюзии, если они у кого-то появились, исчезли. Даманский был еще впереди…
Сразу после праздников нас опять отправили на дачу Горького. Готовилось заседание Политического консультативного комитета организации Варшавского договора. Еще одна презентация нового лидера КПСС. Одновременно шла подготовка к очередному Международному совещанию коммунистических партий (в русле совещаний 1957–1960 годов). На этом этапе ставилась задача созвать заседание Редакционной комиссии для рассмотрения возможных документов совещания.
Принципиально новым обстоятельством была драка с маоистами, расколовшая коммунистическое движение, вызвавшая всеобщее брожение мысли и усилившая тягу к независимости от Москвы, к самостоятельности компартий. В таких условиях нельзя было диктовать, а нужно было согласовывать, учитывать уже в проекте документов разные точки зрения и позиции. Дело для представителей КПСС, прямо скажем, не очень привычное. Ведь мы привыкли к аплодисментам, а не к критике. Теперь надо было привыкать к другому: primus inter pares («первые среди равных»). В общем, надо было подготовить такой проект, который встретил бы минимум возражений. И мы старались. И, судя по моим записям, перестарались.
Я уже говорил, что дневников не вел. Пытался, но не мог – быстро надоедало. Иногда делал отрывочные записи. Первые из таких записей относятся к концу 1964 – началу 1965 года. Цитирую запись от 31 декабря: «Кончаем работу над документами к Редакционной комиссии. Где-то посередке между итальянцами и китайцами. А надо бы определиться. Стремление удовлетворить всех в конце концов всех оттолкнет. Печальный опыт Заявления 1960 года – этого типичного образчика беспринципного компромисса – показывает бесполезность и даже вред документов такого рода». Новый год встречали дружным дачным коллективом. Сформулировал свой личный план на 1965 год:
1) похудеть на 25 кг;
2) бросить курить;
3) перейти на томатный сок;
4) защитить диссертацию.
На следующей странице лаконичная запись: «По данным Управления делами ЦК КПСС, с мая по декабрь (включительно) с. г. выпито 948 бутылок водки и коньяка».
Ни один из пунктов моего плана выполнен не был.
Что же касается впечатляющей цифры, то она запала мне в душу и трансформировалась в цитируемый ниже документ:
«ЦК КПСС.
Ввиду постоянно развивающегося пьянства, охватившего и ведущих теоретических работников, сконцентрированных ныне на даче Горького (тт. Брутенц К.Н., Хавинсон Я.С., Чепраков В.А. и другие, а также Яковлев Александр Николаевич), считаем своим долгом довести до сведения ЦК КПСС ряд соображений, касающихся пресечения и недопущения пьянства впредь.
1. Управление делами ЦК КПСС отнюдь не намерено настаивать на полном изъятии водки из ежедневного рациона теоретиков-марксистов (тт. Брутенца К.Н., Хавинсона Я.С., Чепракова В.А. и других, а также Яковлева Александра Николаевича). Не говоря уже о том, что эта задача утопична и непосильна, мы очень хорошо понимаем, что в нашем суровом климате совершенно обойтись без водки столь же трудно, как, например, жителям знойных и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки трудно обойтись без живительных лучей солнца, а обитателям развитых стран капитализма, находящихся в умеренной полосе, немцам например, – без кружки пива и колбасы.
Управление делами ЦК КПСС полностью осознает, что водка полезна во многих случаях. Во-первых, при согретии окоченевших на холоде членов. Во-вторых, при необходимости преодолевать косность и инерцию мысли. В-третьих, при угощении друга и болезнях. Кто не знает целительных свойств рижского бальзама и водок, на манер оного выделываемых? Кому не известны водки: столичная, анисовая, посольская, кубанская, перцовая и, наконец, обкомовский настой? Опыт неопровержимо доказывает, что рюмка, выпитая перед обедом, помогает пищеварению; точно так же рюмка и даже две, выпитые в обществе хороших знакомых, особенно марксистов-ленинцев, ободряют дух человека, делают его склонным к дружескому излиянию мыслей и чувств. Общежитие без водки – немыслимо, как немыслим без нее и теоретический анализ окружающей нас действительности.
Однако лишь тот может почесть себя истинным марксистом-ленинцем, кто знает, на какой рюмке ему остановиться, или, лучше сказать, кто рядом непрестанных и систематических над собой усилий сумел в точности определить, после какой счетом рюмки он становится пьян. К сожалению, Управлением делами ЦК КПСС установлено, что свойственная человеку самонадеянность не всякому позволяет достигнуть сего желательного для преуспеяния нравственности и расцвета теории результата. Мы имеем в виду прежде всего тт. Брутенца К.Н., Хавинсона Я.С., Чепракова В.А. и других, а также Яковлева Александра Николаевича.
2. Именно эта последняя, так сказать, «пьяная» рюмка и служит предметом беспокойства и предлагаемых ЦК КПСС соображений Управления делами.
Обратившись к исследованию указанной проблемы, Управление делами ЦК КПСС поставило пред собою вопрос: где, в каком месте теоретический работник партии (например, тт. Брутенц К.Н., Хавинсон Я.С., Чепраков В.А. и другие, а также Яковлев Александр Николаевич) может найти эту пагубную для него рюмку? Дома он, безусловно, не найдет ее, ибо здесь его остановят заботливая рука жены и умоляющие взоры детей. Он не найдет ее и в помещении аппарата ЦК КПСС, ибо Управление делами, имея в лице своих сотрудников вторые ключи от сейфов, бдительно следит за содержанием последних. Он не найдет эту рюмку в гостях и в ресторанах, ибо тут его остановит простое чувство приличия. Очевидно, стало быть, что он найдет ее в таком убежище, за порогом которого оставляются не только партийная этика и чувство приличия, но и воспоминания о семейном очаге и его радостях. Этим мрачным убежищем – и об этом надо сказать прямо, по-партийному, – служит дача Горького. Здесь отец семейства, даже если он подлинный марксист-ленинец, выпив пагубную рюмку, потребует еще пагубнейшей и затем, заложив сперва авторучку, а потом, записывая в кредит, незаметно утратит уважение к самому себе и к установлениям родных партии и правительства. Здесь сестра-хозяйка, выведенная из терпения безобразным видом упившихся представителей творческого марксизма (тт. Брутенца К.Н., Хавинсона Я.С., Чепракова В.А. и других, а также Яковлева Александра Николаевича), начинает собственноручно расправляться с ними на виду у плачущих и недоумевающих работников Управления делами ЦК КПСС – машинисток. Здесь, наконец, в пьяном угаре и в ущерб указанным советским машинисткам стало правилом сладострастное лицезрение обнаженных и обнажающихся женщин буржуазного мира.
Таковы факты. Они вопиют. Они взывают к моральному кодексу строителей коммунизма. Пресечь их на основе принципов, закрепленных в решениях московского Совещания работников Управления делами обкомов, крайкомов, ЦК республик и ЦК КПСС 1962 года, – главная задача Управления делами ЦК КПСС на данном этапе его деятельности.
Ждем указаний.
Управляющий делами ЦК КПСС А. Черняев».
Для особо любознательных укажу первоисточник вариаций на тему, заданную 948 бутылками. Оным является: Н. Щедрин (М.Е. Салтыков). ПСС. Л., 1934. Т. IX. С. 222–223.
Заметки тех дней находятся в тетради с выписками из читаемых книг. Иногда комментирую прочитанное. Например:
Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол». Один из героев, Роберт Джордан, так передает взгляды коммунистов: «Если что-либо справедливо по существу, ложь не должна иметь значения. Но лгать приходилось очень много. Первое время он не любил лгать. Ему было противно. Но потом он привык, и ему даже понравилось. От этого еще сильнее чувствуешь, что ты не посторонний, но это очень опасная привычка».
Комментирую: «Сейчас эта «привычка», привычка лгать, стала узаконенной основой пропаганды».
Жан Баби. «Критика снизу. Французская коммунистическая партия между прошлым и будущим», «…в ФКП запрещаются всякая легкость и непринужденность. Шутки, юмор, веселость, которые естественным образом рождаются из общения между людьми и делают его более теплым, стали признаками недостаточной сознательности, ибо они говорят о независимости мысли, а это заведомо считается подозрительным».
Комментирую: «В точку! Все носят серьезные лица. Веселье в подполье».
Э. Герштейн. «Судьба Лермонтова». Выписываю по-французски: une democratic de mediocrite («демократия посредственности»). И добавляю: la dictature de mediocrite («диктатура посредственности») похуже будет.
И еще две записи.
«Разговор с Петренко о цинизме как форме сохранения личности (предохранения оной от шизофрении) в условиях разрыва между идеалами и действительностью».
«Разговоры о демократии. Все – за. Кто же против? Те, кто обладает реальной властью».
1965 год начался поездкой во Вьетнам. Делегацию возглавлял председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин. Его сопровождали Андропов и несколько высокопоставленных чинов из правительства. Задача: предметное обсуждение возможностей политического, экономического и военно-технического сотрудничества. В Ханой прилетели 6 февраля. Принимали по всем правилам восточного гостеприимства. Конечно же в Ханое влияние Пекина перетягивало влияние Москвы. Но вьетнамцам нужна была наша помощь, и они искусно лавировали между Севером и Востоком.
Всепоглощающей проблемой для вьетнамских товарищей было объединение страны, то есть распространение власти Ханоя на юг страны. Или, если угодно, захват Южного Вьетнама. Поскольку там господствовали американцы, Америка неизбежно оказалась бы втянутой в военные действия. Это ставило Советский Союз в сложное положение. Повторения корейского варианта не хотелось, а другой вариант (победа Северного Вьетнама) в Москве не просматривался.
Обстановка резко обострилась как раз в те дни, когда Косыгин находился в Ханое. В ответ на активизацию вьетнамцев президент США Джонсон приказал подвергнуть бомбардировке город Донг-Хой, расположенный на территории ДРВ. Хорошо помню ночные улицы Ханоя, заполненные протестующими вьетнамцами.
Помню и переговоры. Косыгин стремился как-то остудить вьетнамских руководителей, подчеркивал желательность мирных средств борьбы за объединение Вьетнама. Один из главных аргументов: если война, значит, смерть и разрушение, значит, новые страдания людей, которые и так уж вдосталь настрадались. Вьетнамцы слушали внимательно.
Я сидел где-то у стенки и тоже внимательно слушал. И смотрел. Смотрел на вьетнамскую команду и нашу. Наша – это чиновники, выросшие в коридорах власти, в лабиринтах аппарата. Их команда – бывшие подпольщики, бывшие политкаторжане, выросшие на военных тропах. И они не могут понять друг друга. Не могут, потому что по-разному, очень по-разному оценивают и жизнь человеческую, и боль, и страдания. То, что нам казалось иррациональным, бессмысленным, безнадежным, для них было наполнено смыслом и надеждой. Какое еще нужно ratio, если есть воля к победе?!
Из Ханоя Косыгин полетел в Пекин. Как я понимаю, у премьера (не у Андропова!) была все-таки надежда сгладить острые углы, нарастить взаимопонимание, вернуться в Москву с победой. Не получилось. Китайцы, как и мы в «молодости», были самодостаточны и непробиваемы. Их не смущала полемика. Они ничего не хотели координировать.
На беседе с Мао Цзэдуном я не был. По глупости решил, что Пекин интереснее председателя Мао, и отправился путешествовать по городу. Судя по рассказам, Мао Цзэдун переиграл Косыгина. Он свободнее ориентировался в сложностях мировой политики, его логика была изощренней и весомей. Помню, как в самолете мучились помощники Косыгина, пытаясь «выровнять» стенограмму беседы, уравновесить в ней советский и китайский вклады.
Тут, видимо, следует отметить, что у Косыгина практически не было опыта ведения внешнеполитических дел. В Советском Союзе это была епархия партийного лидера. Через пару лет все вернется на круги своя. Но смутное послепереворотное время вытолкнуло Косыгина на международную арену. И сразу ему пришлось столкнуться с нештатными ситуациями. В разговорах с Хо Ши Мином или Ким Ир Сеном на Косыгина работал весь авторитет КПСС и СССР. Мао Цзэдун мог позволить себе не считаться с этим авторитетом. Это делало положение Косыгина непривычным и сложным.
Потом был Пхеньян. В основном – на холостом ходу. Все корейские яйца давно лежали в китайской корзине. «Сопровождающим лицам» самостоятельно гулять по городу не разрешалось. Оставалось пить в резиденции женьшеневую водку и закусывать ее острой и ароматной капустой кимчи. Прелесть что за капуста!
Последняя остановка перед Москвой – Владивосток. В кабинете командующего Тихоокеанским флотом огромная карта. Тихий океан. Адмирал докладывает обстановку. Везде, куда стоит смотреть, советские корабли и подводные лодки. А рядом – американские. Но от этого ни в Америке, ни в Советском Союзе не прибавляется счастья…
Впоследствии мне приходилось много и плотно заниматься Вьетнамом. Исходный пункт моего подхода, который я настойчиво втолковывал начальству, состоял в том, чтобы не рассматривать мировую обстановку сквозь призму вьетнамских событий. Наоборот. Важно было конфликт во Вьетнаме видеть на фоне общего течения мировых дел. А на таком фоне развитие советско-американских отношений, несомненно, приоритетнее отношений с Вьетнамом. Не всегда и не все со мной соглашались.
Experimentum erutis история поставила в мае 1972 года. Визит президента США Никсона должен был начаться 22 мая. Однако 8 мая Никсон приказал заминировать подходы к вьетнамским портам. Усилились бомбежки Хайфона. В общей неразберихе погибли несколько советских моряков. Политбюро колебалось. И все-таки президент США появился в Москве в назначенный срок.
Интересам Советского Союза, доказывал я, «категорически противопоказаны всякие внешнеполитические эксцессы. Главное для нас (и для мирового революционного движения) – проблемы экономики. Надо соразмерять политические решения с реальными экономическими и политическими возможностями и отказаться от мысли, будто мы должны всюду активно вмешиваться в ход событий. Если Советский Союз будет проигрывать экономическое соревнование с Соединенными Штатами, падение нашего авторитета и влияния не смогут предотвратить никакие воинственные и революционные заявления».
И, возвращаясь во Вьетнам. «Не нужно гипнотизировать себя рассуждениями о том, что американцы-де ждут не дождутся, чтобы сбросить на нас атомную бомбу. Точно так же не нужно создавать иллюзию, что мы будем воевать из-за Вьетнама. Государственные интересы СССР требуют поисков не военного (именно на это толкают нас китайцы), а политического решения международных проблем. Это касается и Вьетнама, и других аналогичных проблем, которые неизбежно будут возникать в будущем».
К середине 1966 года внутри советского руководства стало вызревать намерение топнуть ногой, припугнуть американцев, поставить их на место. Уж больно они активизировались во Вьетнаме. Предлагалось учинить разговор по «красному телефону», отозвать посла из Вашингтона, организовать военные учения на Дальнем Востоке и т. п. Пишу бумагу Андропову для возможной дискуссии на политбюро.
«Совокупность предлагаемых мероприятий могла бы иметь смысл только в двух случаях:
а) если мы готовы начать войну с Соединенными Штатами Америки и
б) если хоть мы и не готовы воевать, но американцы верят в нашу готовность начать военные действия против США.
Однако ни одно из этих условий не имеет места. Мы не готовы (точнее – не должны) воевать с американцами из-за вьетнамских событий. И американцы прекрасно это понимают.
В таком случае намечаемые мероприятия, если подходить к ним не с сиюминутной точки зрения, а с точки зрения хотя бы ближайшей перспективы, и если рассматривать их не только как пропагандистскую кампанию, а как элемент советской политики, действуют не в нашу пользу.
На фоне многочисленных заявлений, протестов, митингов, да еще и с участием членов политбюро, все отчетливее будет выступать неспособность СССР оказать реальное воздействие на ход событий во Вьетнаме.
На фоне таких мероприятий, как разговор по «красному телефону», отзыв посла из Вашингтона, военные учения на Дальнем Востоке и т. д., представляющих по существу политический блеф (а американцы понимают это даже лучше, чем мы сами), более контрастным станет отсутствие реальных шагов для сдерживания американской агрессии.
Таким образом, ни эскалация пропаганды, ни эскалация политических блефов не могут оказать сдерживающее влияние на эскалацию войны во Вьетнаме.
Я уже не говорю о том, что предлагаемая программа полностью соответствует намерениям Пекина, делающего ставку на резкое ухудшение советско-американских отношений, рост международной напряженности и появление в связи с этим внутренних трудностей в Советском Союзе.
Наша политика во вьетнамском вопросе должна определяться не пропагандистскими соображениями, не стремлением доказать нашу «революционность», а реальной оценкой сложившейся ситуации и государственными интересами Советского Союза.
Еще в самом начале активных военных действий во Вьетнаме было понятно, что вьетнамский кризис невозможно разрешить военным путем и что втягивание Советского Союза в это дело ни к чему хорошему не приведет. Нынешние события еще и еще раз подтверждают этот вывод. Поэтому главные наши усилия (вплоть до прямого политического давления на Ханой) должны быть направлены на то, чтобы посадить вьетнамцев за стол переговоров.
Разумеется, это трудно сделать. Вьетнамцы будут упираться. Но если мы будем тверды и последовательны, если мы не будем поддерживать иллюзии о возможности «победоносного» отражения агрессии, дело можно сдвинуть с мертвой точки. Важно начать двигаться по этому пути и еще важнее понять, что любой другой путь в конечном счете ведет к ухудшению внешнеполитического положения СССР, к падению авторитета КПСС.
Теперь о военной стороне вопроса. То, что сейчас происходит, дискредитирует нашу военную помощь. Американские летчики называют советские ракеты «летающими телеграфными столбами». Весь мир является свидетелем того, что Советский Союз бессилен помешать систематическим бомбежкам территории ДРВ. Поэтому активные действия, направленные на политическое урегулирование вьетнамского кризиса, должны сопровождаться растущей военной помощью социалистических стран и прежде всего Советского Союза, помощью, локализованной только и исключительно пределами Северного Вьетнама.
Опасности возникновения широкой войны с американцами здесь нет, так как Вашингтон прекрасно понимает наше положение и, видимо, отнесется к нашим акциям военного характера как к вынужденной необходимости. В связи с этим было бы целесообразно прямо поставить перед вьетнамцами вопрос о необходимости ввода в действие советских зенитно-ракетных подразделений. Кроме того, следует не менее решительно поставить вопрос о коренном улучшении всей системы ПВО и, в частности, о том, чтобы советским (а не китайским) советникам принадлежало решающее слово в центральных органах ПВО.
Все эти предложения (а также возможные обращения к КНР) должны делаться открыто, публично. В этом случае отказ вьетнамцев от нашей дополнительной помощи и от наших «добровольцев» можно будет использовать как предлог для того, чтобы дистанцироваться от нереалистической политики вьетнамского руководства.
Все эти соображения отнюдь не исключают и мероприятий пропагандистского характера. Они проводятся и, несомненно, должны проводиться. Однако суть дела заключается в том, чтобы пропаганда была подчинена разумной и последовательно проводимой политической линии. К сожалению, до сих пор наблюдается обратная тенденция: подчинять политику пропаганде. Вряд ли это приносит пользу и политике, и пропаганде».
Раздумья над вьетнамским кризисом наводили и на более общие темы. Идеология приходила в противоречие с политикой. Идеология требовала поддерживать всякую страну, которая является социалистической (по критериям тех лет, разумеется). Но завязывались политические узлы, когда социалистическая страна проводила политику, которая явно не соответствовала интересам мировой системы социализма, интересам борьбы за мир. С этим мы столкнулись во время индо-китайского конфликта. С этим мы сталкиваемся во Вьетнаме, руководство которого настроено против любых компромиссов.
«В связи с этим, – писал я Андропову, – было бы целесообразно откорректировать теорию, приведя ее в соответствие с политической практикой. Следовало бы разработать тезис о том, что социализм не дает права на непогрешимость в политике. Вполне допустимы случаи, когда та или иная социалистическая страна предпринимает внешнеполитические акции не социалистического характера (действия китайцев на границах с Индией, разрыв нами дипломатических отношений с Албанией и т. п.). В этом случае Советский Союз (и любая другая страна социализма) не считает себя обязанной поддерживать такие акции.
Выступление с этим тезисом имеет известные минусы: поднимут шум китайцы, возникнут разговоры о том, что мы якобы не выполняем свой интернациональный долг. Но эти временные минусы перекрываются плюсами: мы избавляемся от противоречия между теорией и политикой, мы развязываем себе руки и получаем идеологически «легализованную» возможность не втягиваться в сомнительные ситуации. Мы заставляем кое-какие горячие головы более реалистически оценивать обстановку и не надеяться, что их авантюристический курс будет поддержан авторитетом Советского Союза. Разумеется, эти соображения следует высказать не сейчас, когда они будут выглядеть как идеологическое прикрытие политического отступления. Видимо, целесообразно выбрать более спокойное время, которое может наступить после урегулирования вьетнамского кризиса».
Сочиняя бумаги такого типа, я и мои коллеги-консультанты не были настолько наивными, чтобы надеяться на их незамедлительный эффект. Многие идеи, которые нам казались бесспорными, отвергались, многие принимались в усеченном, кастрированном виде. Но постепенно, медленно, непоследовательно происходили подвижки в идеологии, она приближалась к практике, к реальным политическим процессам. К сожалению, слишком медленно…
И последний вьетнамский сюжет. Одно время, где-то уже ближе к 70-м, была идея использовать аэродромы на китайском острове Хайнань для промежуточной посадки наших самолетов, которые могли бы быть задействованы во Вьетнаме. Мне было поручено предварительно, «в первом приближении», проработать вопрос. Министерство обороны прислало двух генералов-летчиков и адмирала. Сидели долго. Вроде понимали друг друга. На прощание я спросил:
– Почему военные выдвигают так мало толковых, конструктивных предложений в связи с вьетнамской войной?
– Потому что это война не Министерства обороны, это война ЦК КПСС, – так ответил один из трех собеседников.
Остальные промолчали. Возникла некая неловкость. Гости ушли.
Прошло минут десять. Стук в дверь. Входит один из трех.
– Простите, но я не согласен с… Это наша общая война. Прошу учесть.
И вышел…
Если принять за основу речевую систему координат, то 1965 год – это прежде всего год 20-летия Победы. Речь шла трудно. С одной стороны, решался вопрос о мере правдивости, о возможной степени обнажения негатива, характерного для первой половины войны. С другой – требовал внимания и вопрос о роли Сталина в подготовке к войне, в наших поражениях и победах. Казалось, обо всем уже переговорено и переспорено, но бурные дискуссии вспыхивали снова и снова, свидетельствуя, кстати, о том, что военные историки давно топчутся на месте.
