XX век как жизнь. Воспоминания
Text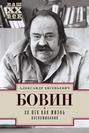


Go to audiobook
- Size: 920 pp. 18 illustrations
- Genre: Biographies and memoirs, Nonfiction
С райкомом у меня сложились хорошие отношения. Там, за редкими исключениями, работали толковые люди, знавшие район вдоль и поперек. Никто в мои дела не вмешивался, рекомендаций и советов мне не давали. 15 октября на 27-й районной партийной конференции я был избран кандидатом в члены РК КПСС. Вел отнюдь не отшельнический образ жизни. Много и с интересом ездил по району, читал лекции, выступал на встречах с избирателями, разбирался в каких-то склоках районного масштаба. И скоро это стал «мой» район, где меня все знали и я всех знал.
Все течет, все меняется. Через год я уже вырос до члена РК КПСС. В октябре 1954 года первый секретарь райкома Константин Александрович Панцырев предложил перейти в райком – заведующим партийной библиотекой (он же – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации). Я согласился. Через несколько месяцев стал заведовать указанным отделом. Отдел, естественно, ведал всем, что относилось к партийному просвещению, к утверждению советской идеологии. Плюс – «курировал» образование, здравоохранение, культуру и спорт в районе.
Работать было интересно. Носился по району, встречался с десятками достойных людей, выступал на партийных собраниях, вникал в добычу нефти и заготовку «кубиков», помогал школам и больницам… В конце концов партийное руководство на «низовом» уровне, на уровне конкретных дел и задач сводилось к тому, чтобы что-то или кому-то стало лучше. Вместе с неизбежным крахом КПСС рухнула и вся система партийных органов и партийного руководства. Место диктатуры партии заняла диктатура чиновников. И, по моим наблюдениям, «трудящимся» стало хуже, они стали беззащитнее. Выход – формирование гражданского общества…
Во время работы в райкоме я поступил в Ленинградский заочный политехнический институт. На радиотехнический факультет. Стал жертвой партийной пропаганды. Тогда было модно говорить о том, что технический прогресс требует хорошей технической подготовки партийных работников. От моды отставать не хотелось, и я оказался в ЛЗПИ. Учился с удовольствием. С особенным удовольствием два раза в год (в мае и ноябре, если память не изменяет) ездил на сессии в Ленинград. Проучился три курса. Все экзамены сдавал на пятерки, а по начертательной геометрии имел твердую двойку: не хватало пространственного воображения. Поступив в аспирантуру философского факультета МГУ, хотел перевестись из ЛЗПИ на мехмат МГУ. Но академик Колмогоров А.Н., который был деканом мехмата, не уважил…
Познакомившись с заочным образованием изнутри, я стал многого бояться. А что, если мост, по которому я еду, или лифт, в котором я поднимаюсь, или машина, за рулем которой я сижу, сделаны инженерами-заочниками? Мы ищем какие-то глубинные, чуть ли не мистические причины техногенных катастроф. А может быть, все гораздо проще – заочная тройка, она ведь не только в Африке, но и в России даже и не тройка вовсе…
Была еще одна хрущевская «мода»: каждый руководитель должен уметь водить машину. Собрали все начальство, распределили по группам и поехали. В кабинете изучали матчасть. А ездили в поле на травке. Довольно быстро эта мода выдохлась. Но с тех пор запомнил, что есть карбюратор… Машину все-таки освоил, но через сорок лет. Разъезжаю на «Оке»…
Накануне 30-й районной партийной конференции до меня стали доходить слухи, что ряд коммунистов намерены предложить мою кандидатуру на пост третьего секретаря РК КПСС. Но я знал, что у крайкома есть другая кандидатура. Да и потом, очень уж хлопотное это дело – секретарь райкома. И хотя я не страдал комплексом неполноценности, все же казалось, что опыта не хватает. Только что перевалил через 25-летие.
Просил энтузиастов не устраивать представление. Но нефтяники народ упрямый. Выдвинули. Пришлось мне два раза давать самоотвод. Потом почти до утра шумели на тему внутрипартийной демократии.
Здесь, в Хадыженске, меня застал XX съезд партии. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» был разослан во все райкомы и зачитывался на открытых партийных собраниях. Мне тоже пришлось читать этот доклад в нескольких организациях. К чему-то я был внутренне готов. Но трагедия оказалась масштабнее. И не все осознавалось сразу. Мы тогда еще не понимали, что этот съезд перепахал не только историю нашей страны, но и историю всего коммунистического движения. Мы еще не понимали, какие открылись бездны бесчеловечности, злодейства, цинизма и лицемерия. Но и то, что было понятно, заставляло людей плакать.
В начале 1956 года судьба сделала неожиданный зигзаг.
При райкоме действовала вечерняя партийная школа, где я вел «курс» «Внешняя политика СССР». Одной из студенток была жена судьи второго участка Михаила Митюшина. Но в этот вечер из Краснодара приехали какие-то гастролеры, и занятия были отменены. Жена, не обнаружив мужа дома, явилась в здание суда. А там, используя дарованную райкомом паузу, Михаил находился с дамой. На глазах у изумленной публики дама выпрыгнула в окно. Скандал. На следующий день дама (кажется, она работала в сберкассе) наглоталась каких-то таблеток. Даму откачали. А Митюшин погорел.
На бюро Краснодарского крайкома наш райком ругали за неправильное использование кадров: зачем Бовина, специалиста с высшим образованием, выдернули из суда… Решили вернуть Бовина.
Возникла финансовая проблема. Базовый оклад судьи, как я уже упоминал, был 880 рублей. Но поскольку это выборная должность, то судья, если до выборов он получал больше этой суммы, сохраняет свой прошлый оклад. Если бы меня избирали с райкомовской должности, я бы получал 950 рублей. Однако в райкоме решили компенсировать мне моральный ущерб и тут же назначили меня заместителем по кадрам директора Хадыженского леспромхоза с окладом 1400 рублей.
Дальше – демократия по известной схеме. 11 марта 1956 года я становлюсь народным судьей второго участка.
На этот раз здание было поаккуратнее. Типовой финский домик. «Команда» состояла из семи симпатичных существ женского пола в возрасте от 17 до 25 лет. Нагрузка на мою нервную систему… Но все относительно. Девочка Майя, которой 17, в ответ на мое замечание о сонном виде стала рассказывать о вчерашних танцах, которые кончились поздно. И о парне, который ее приглашал все время.
– Ничего парень, вежливый, только очень старый, ну, как вы!
Коллектив оказался дружным. Особенно сплачивали поездки в совхоз «Заря № 2». Нас вооружали серпами. И мы убирали хлеб. Потом веселились на природе.
Все шло своим чередом. Но стал скучать. Томление духа началось. Что-то назревало внутри.
Ради точности: стало назревать еще в райкоме. Написал письмо на философский факультет МГУ, просил сообщить условия приема в заочную аспирантуру. В декабре 1955 года получил ответ: надо сдать экзамены и выдержать конкурс. Почему собрался на философский? Уже забыл ход тогдашних мыслей. В общем, хотелось, несмотря на жизненную круговерть, научиться думать, размышлять, смотреть на себя и всю эту круговерть с философской высоты.
Никому, окромя жены, ничего не сказал, взял очередной отпуск и отправился. По дороге в Москву проезжал Ростов. Поезд стоял минут тридцать. Мама с папой приехали. Дождь был проливной. Отец втолковывал мне, что зря я все это затеял: там небось все схвачено, своих много, не пропустят со стороны… Но не смог сбить меня с пути.
Бег с препятствиями начался сразу. На факультете отказались принять у меня документы, ссылаясь на отсутствие философского образования. Но я уже не был мальчиком из Горького. Пробился в отдел науки МГК и потребовал вмешаться и навести порядок. Поскольку нигде в документах нет никакого ограничения, связанного с образованием.
После примерно недельного перезвона документы взяли. Долго изучали мой реферат (он был посвящен горячей тогда теме: «XX съезд КПСС и теория социалистической революции»). Допустили к экзаменам.
Первой шла история КПСС. В билете был вопрос о XI съезде РСДРП. Ну, думаю, повезло. На память цитирую Ленина: палка была выгнута в эту сторону, чтобы ее выпрямить, надо выгнуть в другую сторону.
– Ленин так не говорил, – возражает председатель комиссии.
– Нет, говорил, – нахально настаиваю я.
Председатель просит принести соответствующий том сочинений Ленина.
– В собрании сочинений этого нет, – замечаю я, – надо обратиться к стенограмме съезда.
Обратились. Палку нашли. Мне поставили «отлично». Хотя могли ведь рассердиться и завалить…
Следующий экзамен – собственно философия, диалектический и исторический материализм. Тут я был подкован прилично. И в университете и после читал немногочисленные тогда книги по философии, следил за журналом «Вопросы философии». Тоже – «отлично».
На следующий день меня пригласили в деканат и предложили переписать заявление – с заочной аспирантуры на очную. Это была уже крутая ломка жизни. Позвонил в Хадыженск Норе. Так, мол, и так. «В Москву!» – сказала жена.
Предстоял еще экзамен по английскому языку. А накануне, 30 сентября, – Вера, Надежда, Любовь и матерь их Софья. Поскольку у одного из моих дядьев, Александра Ивановича Борисова, жена была Вера, а дочери – Надежда и Любовь, все московские родичи собирались у них. Гвоздем программы было ведро соленых грибов.
Мы с братом Сашей и братом Жорой недобрали и решили продолжить праздник в «Балчуге». Продолжили. Но природу обмануть нельзя: чем лучше вечером, тем хуже утром. На экзамен я ехал с Ленинских гор в настроении препохабном. Дыхну, думал, на преподавательниц, а им плохо станет… Но свое «отлично» кое-как заработал.
Вернулся в Хадыженск. Приступил к работе. Молчу. Долго тянется октябрь. Наконец получаю выписку из приказа ректора МГУ № 691 от 18 октября 1956 года о зачислении в аспирантуру. Иду к Панцыреву. Полный скандал с матом и топаньем ногами. Мне неловко, так как понимаю, что причиняю человеку лишние беспокойства. Но в смысле мата я спокоен, поскольку моя позиция неуязвима. Не отпустить не могут. Вместо себя предлагаю временно одного из народных заседателей – И.А. Поповича.
31 октября направляю председателю Краснодарского краевого суда заявление об увольнении.
«Были сборы недолги…»
9 ноября сажусь в поезд на станции Хадыженская. Нора – до прояснения бытовых условий в Москве – возвращается в Ростов.
Москва. Еще один университет
Философский факультет (деканат и аудитории) в ту пору находился в одном из старых университетских зданий на Моховой. Общежитие для аспирантов было на Ленинских горах. Там я и расположился. Блок на двоих состоял из двух комнат, душевой и туалета. На этаже были кухня, телефоны, гостиная с телевизором. В цокольном этаже – вполне приличная столовая. Есть и «профессорская» столовая, вход свободный, вкуснее, но дороже. Кстати. Аспирантская стипендия – 780 рублей. Или, если работал, платят предыдущий оклад, но не больше 1000 рублей.
Первое впечатление – какая-то пугающая тишина, пугающая ненужность. В Хадыженске я был включен в систему, в структуру. Был кому-то нужен. А теперь – все тихо. Очень тихо. Есть план семинаров. Дальше – полная самодеятельность. Можно пойти в библиотеку, можно – в пивную. В принципе я выбрал библиотеку, но не гнушался и пивной.
Упомянутая выше пугающая тишина касалась моей личной жизни, моей, так сказать, невостребованности. В жизни общественной все было наоборот. Сонное спокойствие провинции сменилось ураганными ветрами, которые дули в столице.
Университет бурлил. Причина и повод – события в Венгрии. Подавление войсками Советского Союза «венгерской контрреволюции».
Напомню. Восстание в Будапеште началось 23 октября. Венгры протестовали против просталинского режима Ракоши, против господствовавших тогда форм строительства социализма, организации общественной жизни, которые были скопированы с советских образцов, требовали демократизации жизни. Квалифицировав происходящее как контрреволюцию, президиум ЦК КПСС дал указание Особому корпусу силой подавить восстание. Что и было сделано. Последний удар – 4 ноября.
Бурные события аналогичного плана происходили и в Варшаве. Но там обошлись без танков и крови.
Университетский барометр фиксировал бурю. Каждый вечер – самостийные собрания и митинги. Венгры и поляки – в истерике. Принимаются и посылаются всякие письма и обращения. Парткомы в растерянности, события выходят из-под контроля.
Буквально на второй или на третий день появления в общежитии я оказался на одном из таких собраний. На нашем, «философском», этаже. Это там, в Хадыженске, выступая с докладами о XX съезде КПСС, я ходил в демократах и либералах. Здесь все переменилось. Я не был готов к такому накалу демократических, антисталинистских настроений. Меня не пугал радикализм лозунгов и требований (московские студенты на десять лет опередили «великого кормчего» и его призыв: «Бить по штабам!»). Тут было другое. Мне представлялось, что критика Сталина и сталинизма слишком размашиста, слишком безоглядна, что ли. Во всяком случае, социализм, партия имели для меня самостоятельное значение, не сводимое к сталинистским извращениям. Не мог я безоговорочно принять и критику Советского Союза, нашей политики в «странах народной демократии». И я ринулся в бой. Несколько раз выступал. Под улюлюканье и всяческие выкрики аудитории. А потом до утра пили в какой-нибудь комнате и выясняли отношения.
Нарвался и на небольшие неприятности. Мой пыл добровольного защитника советской власти был замечен спецтоварищами. Пригласили, побеседовали. Уважительно так: взрослые, все понимающие люди толкуют о недостойном поведении молодежи. И попросили по их рекомендациям побывать и выступить на сходках других факультетов. Я отказался. Они все-таки пару раз ко мне приходили. Но буря постепенно утихала, и меня оставили в покое.
Другая буря (но баллами поменьше) была вызвана столкновением мнений вокруг романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым…». Роман публиковался в «Новом мире» осенью 1956 года. Так что его первую половину я освоил еще в Хадыженске. Тема: конфликт между изобретателем и бюрократией. Метод: критический реализм. Интеллигенция приветствовала. Начальство, привыкшее к реализму социалистическому, гневалось: очернение, искажение и т. п.
В моих бумагах сохранилась типичная для тех дней статья некоей Н. Крючковой («Известия», 2 декабря). Вывод рецензента: «Творческая неудача, постигшая В. Дудинцева, не является случайной. Она коренится в неумении правильно понять и «изобразить, – как говорит М. Горький, – скрытые в фактах смыслы социальной жизни во всей их значительности, полноте и ясности…», в неумении определить место того или иного явления в действительности. Вот почему в романе В. Дудинцева правда отдельного факта, вырванного из единой цепи явлений, на общем фоне нашей жизни оборачивается полуправдой, а то и ложью.
В этом главный идейно-художественный недостаток романа «Не хлебом единым…».
Тревогу за творческую судьбу писателя внушает возникший вокруг романа нездоровый ажиотаж. На обсуждении в Доме литераторов, например, роман расхваливали за «злободневность», за «остроту темы» и умалчивали о значительных идейно-художественных просчетах автора».
«Нездоровый ажиотаж» в университете доходил почти до рукопашной. Парткомы лили масло на бушующие волны. Студенты не успокаивались. Предлагали выдвинуть роман на Сталинскую премию. Интеллигенция приветствовала. Студенты митинговали. Я тоже приветствовал. И митинговал. Но молча.
Пять лет в Ростовском университете приучили меня достаточно (а может, недостаточно) скептически относиться к официальным идеологическим одеяниям. Три года в Хадыженске, где я был вписан в систему реальной власти, по-видимому, укрепили конформистские тылы. В Московском университете эти тылы стали постепенно разрушаться. Я эволюционировал в сторону диссидентства. Но, будучи слишком рано приближенным к власти, до диссидентства не дошел. Закрепился на позициях фрондерства.
Под фрондой я понимаю в данном контексте инициированное XX съездом КПСС критическое отношение к власти, к ее политике, не затрагивающее принципиальных основ этой политики, основ нашего строя. И не только отношение. Артисты, художники, музыканты, литераторы, ученые пытались утвердить свое право на творческий поиск, на творческую свободу. Общая настроенность – возвращение к Ленину. Имена-символы: Ефремов, Шатров, Евтушенко, Вознесенский, Неизвестный. Конец 50-х – начало 60-х годов можно обозначить как время Фронды, время давления на власть. Власть сумела устоять и даже на время туже закрутить гайки. Но первые, пусть робкие, ростки перестройки взошли. Или, если перейти на язык физики, начала накапливаться критическая масса, которая всего лишь через четверть века разнесет самый мощный тоталитарный режим XX века.
Крупные принципиальные вопросы общественного развития решались по вечерам. Днем же надо было прежде всего определиться с темой диссертации. У меня было намерение заняться особенностями строительства социализма в Югославии. Общие подходы к этой теме обозначились во вступительном реферате.
Реферат начинался на полном серьезе: «Наука только тогда может называться наукой, когда она не цепляется за старые, привычные формулы и выводы, а непрерывно идет вперед, развиваясь, обогащаясь, отбрасывая отжившие, хотя и освященные традициями и авторитетами, положения. В противном случае неизбежен застой, окостенение, превращение науки в собрание догм, в катехизис, когда вера в определенные утверждения заменяет и снимает необходимость творческого мышления. Если физика ставит вопрос о неисчерпаемости электрона, то с не меньшим правом социология может говорить о неисчерпаемости человеческого общества, о богатстве форм его развития, о непрерывном прогрессе его экономической и социальной структуры».
Нахально для 25 лет, но многообещающе.
К сожалению, кафедра возражала. Тема, говорили мне, слишком опасно близка к политической конъюнктуре. Кто-нибудь не так чихнет, и все придется переделывать. Я готов был рискнуть. Но был остановлен.
Предложение кафедры: «Проблема абстракций в семантической философии». Тут уж я заартачился. Во-первых, я совершенно не в курсе предлагаемой темы. Во-вторых, я недостаточно хорошо знаю английский язык, чтобы быстро разобраться в семантической философии, избегая при этом потерь важных смысловых нюансов. В-третьих, мне это просто неинтересно. Кафедра согласилась.
Возникла томительная пауза. На помощь пришел его величество случай.
В начале декабря на факультете с докладом «Новейшее развитие физики требует отказа от ряда философских предрассудков» выступил профессор Эрнст Кольман[4]. Это была неординарная, чрезвычайно интересная личность. Математик и философ. Родился (1892) и учился в Праге. После Октябрьской революции жил и работал в СССР. Вступил в ВКП(б). Три с половиной года отсидел на Лубянке. Протестовал против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Эмигрировал в Швецию. Из Стокгольма написал письмо Брежневу, где сообщил, что выходит из КПСС, членом которой был пятьдесят восемь лет. Скончался в 1979 году.
Доклад Кольмана вызвал смятение среди профессуры философского факультета. Он был слишком радикален и покушался на любимые философские игрушки. Он называл «философскими предрассудками» то, без чего казался немыслимым диалектический материализм. Поэтому критическая реакция стала выходить за рамки науки и приближаться к инвективам партийно-политического характера.
Мне доклад понравился. Он заставлял думать. Однако предлагаемая докладчиком сцепка философии и физики не показалась мне убедительной. Я выступил. Подводя итог дискуссии, Кольман, в частности, сказал (привожу по памяти): «Со многими аргументами Бовина я согласен, только не понимаю, почему он оборачивает их против меня; по-моему, мы говорим об одном и том же, но по-разному расставляем акценты».
Услышав это, я даже как-то растерялся: то ли он не понял меня, то ли я – его. Чтобы четче расставить эти самые акценты, я взял свои заметки и соорудил нечто под украденным у Энгельса заглавием: «Анти-Кольман». Это был мой первый и последний «самиздат». Попался он и на глаза кафедрального начальства. Мне настойчиво советовали заняться философией естествознания. После недолгих колебаний я согласился.
Текст моего сочинения сохранился. Чтобы не очень сильно травмировать читателя, я опускаю аргументы от физики. Но философии не избежать. Итак.
«АНТИ-КОЛЬМАН
О перевороте, произведенном в философии проф. Э. Кольманом
Опыт популярного опровержения философских заблуждений доктора философских наук и профессора математики Э. Кольмана, произведенный нахальным и самонадеянным аспирантом философского факультета А. Бовиным.
В процессе обсуждения доклада проф. Кольмана «Новейшее развитие физики требует отказа от ряда философских предрассудков» было высказано мнение, что доклад этот есть «проявление кризиса буржуазного естествознания». Это мнение принадлежит т. Казаринову. Я не могу согласиться с такой оценкой доклада. Она вносит некоторые нежелательные нотки в нашу дискуссию. Правда, эта оценка доклада переводит дискуссию на широкую, привычную, накатанную уже дорогу. Но, к сожалению, эта дорога не всегда ведет к истине.
Мне кажется, что обсуждаемый доклад есть не проявление кризиса буржуазного естествознания, а проявление тех затруднений, с которыми сталкиваются и наши физики и наши философы при анализе данных современных естественных наук и в первую очередь – физики. Доклад есть попытка найти решение ряда интересных вопросов. Вопросы поставлены прямо и резко. Без философских закруглений. А только такая резкая – «в лоб» – постановка вопросов способствует их решению.
И то, что доклад заставляет думать, заставляет еще и еще раз пристально всматриваться в то, что стало привычным, аксиоматическим, – уже одно это ценно (независимо от того, правильны или неправильны выводы и рассуждения проф. Кольмана).
Анализ доклада требует, прежде всего, тщательного разбора всех аргументов докладчика по той или иной проблеме. И в первую очередь – разбора тех фактов естествознания, которые лежат в основе философских выводов. Ссылки на Гегеля здесь не помогут.
А так как подобный анализ требует много времени, то я ограничусь только двумя, максимум тремя вопросами и попытаюсь доказать, что философские выводы проф. Кольмана по этим вопросам ошибочны.
Перехожу к делу.
1
Рассмотрим вопрос о взаимодействии и причинности. <…> Проф. Кольман утверждает, что теория относительности несовместима с признанием универсальной причинности. Если бы это было так, то можно было бы только пожалеть теорию относительности. Но, к счастью, такой альтернативы не существует, и я постараюсь доказать ошибочность взглядов докладчика по этому вопросу.
Мне кажется, что проф. Кольман неправильно представляет себе содержание философского положения об универсальной причинной связи. В его изложении получается, что универсальность причинной связи заключается в том, что любое событие может быть причиной любого другого. Между тем даже самые отъявленные вульгаризаторы никогда ничего подобного не говорили.
Универсальный характер причинности в нашей философии заключается в том, что в мире нет не обусловленных, беспричинных событий, что любая вещь, любое событие, любой процесс без малейшего исключения имеют свои причины. И в признании этого философского вывода состоит признание универсальности, всеобщности причинной связи.
Не подрывается ли этот принцип универсальной причинности наличием квазиодновременных событий? Ни в коем случае. Ибо каждое из квазиодновременных событий имеет свою причину, обусловлено целой цепью других событий.
Таким образом, альтернатива, поставленная в докладе, не имеет места в действительности. Теория относительности не только не опровергает универсальной причинности, но, наоборот, подтверждает этот принцип, давая целый ряд новых, глубоких закономерностей развития.
Далее. В докладе приводится положение Ленина о том, что причинность, каузальность есть лишь «частица» всеобщей, универсальной связи и взаимодействия явлений. По мысли автора доклада, это положение должно подкрепить его концепцию об отсутствии универсальной причинности. Но так понимать Ленина нельзя. Взаимоотношение причинности и взаимодействия заключается в том, что универсальная причинность есть лишь сторона, момент, «частица» универсального же взаимодействия. Я беру кусок угля и кладу его в печь. Уголь горит.
Ясно, что между углем и кислородом происходит взаимодействие. Ясно также, что это взаимодействие не имеет причинно-следственного характера.
Универсальность взаимодействия заключается в том, что в мире нет изолированных явлений, что любое событие, и квазиодновременное в том числе, тысячами нитей связано с рядом других событий. И это не опровергается, а подтверждается теорией относительности.
В данном разделе доклада содержится еще одно утверждение, с которым нельзя согласиться. С точки зрения докладчика, макрокаузальность отвлекается от случайности. В микромире же каузальность включает в себя случайность…
Мне кажется, что такая постановка дела запутывает ясный вопрос и напоминает бесконечную и бесплодную дискуссию среди юристов о причинно-случайных и причинно-необходимых связях. Только юристы не ссылались на квантовую механику.
Не подлежит никакому сомнению, что причинные связи в каждой области бытия проявляются по-разному, имеют – в зависимости от характера тех или иных процессов – разное содержание. Курица снесла яйцо. Философ написал книгу. И здесь причина, и там причина, но каждый раз причина осуществляется по-разному.
Вопрос же о необходимых и случайных связях не определяет характера причинной связи как таковой. И необходимые, и случайные процессы причинно обусловлены в равной степени. Это относится к макро- и к микромиру. А то, что мы иногда не знаем содержания этой обусловленности, а иногда не хотим ее знать, – это уже другое дело.
Нет ни чистой необходимости, ни чистой случайности. Необходимый процесс всегда сопровождается бесчисленным множеством случайных событий. Случайное событие всегда есть частица, сторона, момент, проявление какого-то необходимого процесса.
Не механическая причинность отвлекается от случайности, а формулы наши могут не учитывать эту случайность, ибо процесс определен точно.
Не квантовая причинность включает в себя момент случайности, а формулы наши включают в себя момент вероятности как существенный момент. И это означает не что иное, как тот предел, до которого мы дошли в познании причинных связей.
Причинная же связь как таковая не зависит от того, о макро- или микропроцессах идет речь. В этой связи введение понятий макрокаузальность и микрокаузальность представляется излишним, ибо эти понятия говорят об одном и том же.
Теперь подведем итоги. Проф. Кольман прав, когда он указывает на наличие класса явлений, принципиально не могущих физически взаимодействовать друг с другом. В этом, то есть физическом, смысле слова требуется уточнить бытующее в философской литературе выражение о том, что «всякая вещь связана со всякой». Но проф. Кольман глубоко заблуждается, когда он этот частный физический факт возводит в ряд философского постулата и приходит к выводу об отсутствии универсальной причинной связи. Необоснованным представляется и деление причинной зависимости на макрокаузальность и микрокаузальность.
2
Второй вопрос – это вопрос о познаваемости мира. Основной вывод докладчика таков: «Со всей ответственностью следует заявить, что признание отдельных классов явлений природы не просто временно непознанными, а принципиально непознаваемыми при помощи экспериментов и наблюдений никакого отношения к агностицизму не имеет».
Отвлечемся пока от агностицизма и посмотрим на позитивную позицию докладчика. Вопрос поставлен предельно ясно: в природе имеются отдельные классы явлений, которые или по своей природе, или по природе органов чувств человека принципиально не могут быть познаны.
Проф. Кольман указывает четыре класса таких «принципиально непознаваемых вещей».
1. Прошлые состояния систем, так как классическая термодинамика установила необратимость физико-химических процессов. Сюда же относится и прошлое исторических событий, ибо время необратимо.
2. Системы, находящиеся в крайнем удалении, так как согласно теории относительности скорость света ограничена, и мы о состоянии этих систем никогда ничего не узнаем.
3. Определенные состояния микросистем, так как квантовая механика установила принцип неопределенности.
4. В четвертый класс, означающий явления, для познания которых не приспособлены органы чувств человека, пока попадает один муравей, субъективную сторону ощущений которого нам познать не дано.
Как видите, в подтверждение тезиса о том, что существуют принципиально непознаваемые вещи, привлечен солидный научный аппарат – тут и термодинамика, и теория относительности, и квантовая механика. Один только муравей остается без серьезной научной защиты. Но если присмотреться внимательно ко всем этим «классам», то оказывается, что проф. Кольман из пушек стреляет по воробьям. И вот почему.
Никто, я думаю, не будет спорить с тем, что история человечества, увы, конечна. Также никто не будет спорить и с тем, что развитие материи есть бесконечный процесс, бесконечное многообразие, бесконечное изменение. И человечество, мыслящий дух, вернее, мыслящая материя не есть венец творения, а лишь бесконечно малая частица мирового процесса. И в силу этого очевидно, что человечество не сможет познать все и вся. Это ясно и без термодинамики и теории относительности.
Далее. Исходным пунктом, основой всякого процесса познания является какой-то минимум эмпирических, чувственных данных. Это одинаково относится и к кулинарии, и к математике, хотя в последней, конечно, связь с эмпирией иногда бывает трудно уловить. В силу этого для познания любой вещи или процесса надо получить от них этот минимум данных. А если его нет, то нет и процесса познания. Именно к этому сводится и невозможность познания прошлого, и невозможность познания далекого, и невозможность познания «внутреннего мира» муравья. Но опять-таки, ни теория относительности, ни термодинамика здесь ни при чем.
Энгельс давно сказал, что «мы можем познавать только при данных нашей эпохой условиях, насколько эти условия позволяют». И к этому сводятся по крайней мере три класса из четырех, указанных выше. И тут можно было бы не спорить, а просто удивиться тому, зачем понадобился докладчику столь мощный научный аппарат для обоснования ясных и даже тривиальных положений.
Но спорить, к сожалению, придется. Спорить придется потому, что проф. Кольман настаивает на том, чтобы назвать все эти вещи принципиально непознаваемыми, чтобы ввести в философию термин «принципиально непознаваемая вещь». И здесь спор не только о словах, а о существе дела.
