Аракчеев. Реформатор-реакционер
Textand read the book for free:
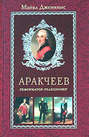


Go to audiobook
- Size: 290 pp.
- Genre: Biographies and memoirs, Foreign educational literature, Foreign journalism, General historyEdit
По прибытии в Санкт-Петербург Аракчеев был восстановлен в своем прежнем положении в армии и принят в свиту императора. Таким образом, пробыв в отсутствии всего лишь шесть месяцев, он оказался еще ближе к Павлу, чем прежде. Императору не хватало ревностно относившегося к службе и квалифицированного офицера, который никогда не обсуждал приказы сверху. Кроме того, он не понимал великого князя, не доверял ему и надеялся извлечь выгоду из его дружбы с Аракчеевым. Вскоре после восстановления Аракчеева Павел частным образом спросил его, не может ли он выполнить его задание и присмотреть за Александром «как за любимым первенцем», сообщая императору обо всем, что, по мнению Аракчеева, тот должен знать. Аракчеев, предвидя собственное двусмысленное положение и будущую опасность для своего положения, отказался. Он попросил Павла поискать кого-нибудь еще. «Я ответил, что не могу служить оружием для борьбы между отцом и сыном, и Павел больше не возвращался к этому разговору, хотя не рассердился», – вспоминал Аракчеев через много лет40.
С каждым месяцем положение Аракчеева ощутимо укреплялось. В конце 1798 г. он был восстановлен в должности генерал-квартирмейстера, а в январе следующего года стал инспектором всей артиллерии. В мае он получил следующий знак отличия: Павел пожаловал ему титул графа. Аракчеев стал подумывать о женитьбе. Ему очень нравилась Авдотья Савельевна Ваксель, молоденькая дочка бывшего чиновника Адмиралтейства. К сожалению, девушка уже была обручена с генералом Котлубицким, который был адъютантом Аракчеева в Гатчине, а теперь стал адъютантом императора. Мать Авдотьи считала Аракчеева человеком с блестящим будущим и пыталась уговорить дочь на этот брак, но у Аракчеева не было шансов. «Я была у дядюшки Алексея Ивановича и наконец-то увидела этого графа, – писала Авдотья Котлубицкому в июле. – За обедом он делал мне весьма экстравагантные комплименты и заявил, что, так как вы с ним всегда были друзьями, он надеется, что я буду с ним поласковее. Какой он отвратительный и злобный! Какое у него гадкое и подлое лицо! Я нахожу его очень неприятным». И снова: «Если бы ты знал, что маменька делает с твоей ягодкой! Она каждый раз посылает ее через дядюшку к графу, этому ужасному Аракчееву!»41 В августе Котлубицкий женился на Авдотье, но двое мужчин остались друзьями. Котлу бицкий, который всегда с нежностью относился в Аракчееву (и, подтрунивая над ним, говорил, что «ему следует хотя бы иногда кого-то хвалить, пусть даже по ошибке»), в дальнейшем делал все возможное, чтобы помочь своему бывшему начальнику.
Сохранилось немного свидетельств о деятельности Аракчеева в этот период, и среди них ни одного о его работе в должности инспектора артиллерии, предвосхитившей те реформы, которые он должен был претворять в жизнь во время царствования Александра. Систематическое управление было ни в коей мере невозможно во время царствования Павла, отказывавшегося назначать главу Военной коллегии, которая управляла армией, предпочитая сам занимать этот пост. Руководя артиллерией, Аракчеев проявил несколько актов милосердия, считающихся примерами чувства справедливости, которое скрывалось за его грубой внешностью; но для историка более позднего времени эти случаи характеризуют скорее случайную и дикую природу этой сиюминутной справедливости, чем доброту Аракчеева42. Так, некоего штабс-капитана Лопатина приговорили к временному понижению в должности «за разнообразные запрещенные действия»; «ввиду того факта, что он уже провел десять лет под арестом в кандалах», Аракчеев порекомендовал отменить последующее наказание.
К концу 1799 г. немногим из тех, кто получил высокие должности от Павла сразу после его вступления на престол, удалось сохранить свое положение. Шведский посол писал домой: «Я могу бесконечно перечислять людей, которых видел обласканными при дворе и которые потом куда-то исчезли. Министры, генералы и фавориты менялись постоянно, почти ежедневно». Непрерывная череда повышений и понижений в должности повергла государственный аппарат в хаос и оттолкнула от императора его самых преданных слуг, включая старых друзей, таких, как Плещеев и Алексей Куракин. Лишь камердинер и наперсник императора Кутайсов, всеми ненавидимый глава тайной полиции Обольянинов, Ростопчин да Аракчеев были неуязвимы. Наконец на Аракчеева обрушился новый удар, на этот раз полностью спровоцированный им же.
Успехи Аракчеева способствовали карьере двух его братьев, которые после восшествия Павла на престол стали офицерами гвардии. В 1799 г. его младший брат Андрей был произведен в генерал-майоры и принял командование батальоном полевой артиллерии. В сентябре его батальон охранял оружейный склад, в котором находилась старая орудийная колесница. Однажды ночью воры проскользнули мимо караульного и сумели украсть расшитые золотом знамена, золотые галуны и кисти, которыми была украшена колесница. Естественно, о краже следовало доложить императору; но Аракчееву очень хотелось спасти брата от беды. В рапорте Павлу он сообщил, что офицер, проводивший расследование, выяснил, что «окна склада, через которые офицеры, отвечавшие за охрану склада, обнаружили, что произошла кража, были разбиты ранее. Таким образом, у людей была причина подумать, что кража имела место не этой ночью, а ранее». Неизвестно, подсказал ли ему это Аракчеев, но император, всегда поспешный в своих решениях, немедленно отстранил от службы полковника Вильде – офицера, дежурившего предыдущей ночью. Но воров, трех артиллеристов, быстро поймали, и они признались, что совершили кражу в ту ночь, когда дежурил Андрей. Вильде добился восстановления через Кутайсова, заступившегося за него перед императором. Павел изменил свое решение так же быстро, как и принял, но разгневался на Аракчеева, которого счел ответственным за то, что его ввели в заблуждение. Вечером того дня, когда произошел разговор Кутайсова с Павлом, Аракчеев прибыл в Гатчину, где император давал бал. Увидев его, Павел послал к нему Котлубицкого с запиской, в которой приказывал Аракчееву уйти.
На следующий день, 1 октября, Аракчеева уволили во второй раз на протяжении его карьеры. В приказе указывалось, что он подал ложное донесение о ночи, когда произошла кража, и назвал дежурным не того офицера, который в действительности стоял в карауле. Генерал-майор Тучков описал странную реакцию Александра на эти новости. Когда Тучков сказал ему, что преемник Аракчеева плохо знал строевую подготовку, но был «хорошим честным человеком», Александр воскликнул: «И слава Богу. Эти назначения – сущая лотерея, и они могли найти другого подлеца, как Аракчеев»43. И современники, и те, кто жил позднее, были склонны толковать это замечание как спонтанное выражение истинных чувств великого князя по отношению к человеку, которого он недолюбливал, но в котором нуждался. Однако более вероятно, что эти слова были единственными, которые Александр, будучи, без сомнения, дипломатичным, мог сказать, связывая непопулярность Аракчеева с его братом-офицером и учитывая тот факт, что его близкие отношения с Аракчеевым были всем известны, ибо, публично очернив Аракчеева, он не попытался порвать отношений с ним.
Через две недели великий князь писал Аракчееву из Гатчины: «Я надеюсь, друг мой, что в этих несчастных обстоятельствах мне не нужно посылать вам новые заверения в моей неизменной дружбе. Вы хорошо о ней знаете, и, я уверен, вы в ней не сомневаетесь. Верьте мне, она никогда не изменится. Я везде расспрашивал о неверном рапорте, который вы якобы подали, но никто ничего об этом не знает, и никто не посылал донесений с описанием этого случая в канцелярию императора. Если что-то и было написано, то это было сделано за кулисами. Император вызвал Ливена и потребовал показать ему слова, которые стояли в приказе. По всему этому делу я могу судить, что император думал, что кража была совершена при подстрекательстве иностранцев. Похитители уже пойманы, как вы, я думаю, знаете, и он был очень удивлен, что ошибся в своих заключениях. Он тут же послал за мной и заставил рассказать, как произошла кража; после этого сказал мне: «Я был уверен, что это дело рук иностранцев». Я не сказал, что иностранцам не нужны пять старых знамен. Так закончилось это дело. Он не сказал мне ни слова о вас, но ясно, что вас оклеветали»44.
Аракчеев не стал оправдываться. Вместо этого он попросил за своего брата, который был уволен со службы одновременно с ним. «Теперь его считают виновным из-за меня, и, как молодой человек, он оказался праздным и отстраненным от службы. Так как караульный и офицер караула оправданы военным судом, я слезно прошу ваше императорское высочество ходатайствовать перед императором о прощении и о возвращении моего брата на службу, ибо он молод и мог бы работать и пожертвовать жизнью за то, чтобы вернуть все милости, оказанные нашей семье»45.
Аракчеев не сразу покинул Санкт-Петербург. Как только он утратил свое влияние, многие попытались свести с ним старые счеты и вспоминали нанесенные обиды; это касалось даже тех, кто почти не имел к нему отношения. Одно из таких обвинений было предъявлено Ревизионным департаментом. Аракчеева обвиняли в халатности, проявленной при покупке негодных лошадей для гвардейского батальона и при ремонте казарм того же батальона. Аракчееву было приказано защищаться, но доказательства, приведенные обвинением, оказались такими неубедительными, что в конце концов обвинение сняли.
Однако старые враги не унимались. Они неотступно преследовали его, возможно опасаясь, что он снова может вернуться к власти. В следующем году он едва не был повержен Кутайсовым, одним из его непримиримейших врагов из самого близкого окружения Павла, и ему удалось избежать серьезных неприятностей лишь благодаря своему старому другу Котлубицкому. По своему происхождению Кутайсов был турком. Еще мальчиком его взяли в плен во время войн 1770-х гг. Екатерина подарила его Павлу, чтобы он выполнял роль лакея. Павел послал Кутайсова ко двору Людовика XVI для изучения медицины и парикмахерского искусства, но его влияние на императора не ограничивалось этими сферами. Со времен Гатчины он и Аракчеев постоянно соперничали и никогда не упускали возможности опорочить друг друга в глазах Павла. На этот раз Кутайсов случайно узнал, что Аракчеев воспользовался своим служебным положением, чтобы привлечь солдат артиллерии к строительству своего дома в Грузине. Он донес об этом Павлу, и тот тут же отправил к Аракчееву адъютанта, который должен был во всем разобраться. Котлубицкий узнал об этом и указал адъютанту окольный путь в Грузино, а тем временем отправил по прямому пути своего кучера с письмом, в котором предостерегал друга и просил по прочтении сжечь. «Скажи ему, что я не сжег письмо, а съел его в твоем присутствии», – воскликнул Аракчеев со слезами благодарности. После этого он действительно проглотил бумагу на глазах у испуганного посыльного46.
Казалось, что карьера Аракчеева гибнет так же стремительно, как когда-то начиналась. Он уехал в свое только что приобретенное имение Грузино, и его контакты со столицей почти полностью прекратились. Правда, общение с Александром прекратилось не сразу; великий князь написал ему в конце года, предлагая приехать в Санкт-Петербург для разговора «о некоторых важных вещах, которые касаются вас». Он добавил: «Ваша дружба всегда будет мне приятна, и вы можете быть уверены, что и моя никогда не прекратится». Но в последующие месяцы переписка между ними не возобновилась, и, зная о привычке Аракчеева бережно хранить даже самую коротенькую записку, полученную им от любого из членов императорской семьи, можно предположить, что Александр, оказавшийся в круговороте событий последнего тревожного года царствования его отца, действительно не уделял внимания своему другу.
В течение 1800 г. характер Павла изменился не в лучшую сторону. Возросло недоверие, которое он испытывал к своему окружению и особенно к семье. Были изданы новые абсурдные и репрессивные указы, которые еще больше оттолкнули от императора дворянство и армию. Был полностью запрещен ввоз иностранных книг. Не разрешались путешествия за границу. В провинции не разрешалось проводить дворянские собрания. И армия, и гражданское общество были потрясены историей некоего штабс-капитана, которого приговорили к тысяче ударов розгами и лишили звания и привилегий дворянина. Одного священника высекли кнутом за хранение запрещенных книг, а лейтенанту отрезали язык и сослали в Сибирь за то, что он написал эпиграмму о строительстве Исаакиевского собора. Немецкий драматург Коцебу, который в то время был директором театра в Санкт-Петербурге, впоследствии описал этот ужасный для столицы год. Он вспоминал, что каждый раз, когда его жена и дети поздно возвращались домой, он боялся, что их арестовали по пути за то, что они не поприветствовали члена императорской семьи; а в холодное время года он обнаружил, что ему приходится быстро пробегать мимо длинных стен Зимнего дворца, потому что ему приходилось идти с непокрытой головой, пока из дворца его могли видеть. После девяти часов вечера городские заставы закрывались, и проезжать по улицам позволялось лишь докторам и акушеркам. Кочубей писал другу: «Страх, в котором мы все живем, неописуем. Люди боятся собственной тени. Боится каждый. Доносы стали обычным делом; правдивы они или лживы, им всегда верят. Крепости переполнены арестованными. Все охвачены глубокой печалью, люди больше не знают, что значит быть счастливыми».
Не менее серьезным было то, что Павел полностью поменял курс внешней политики. Вместо того чтобы продолжать участвовать в антифранцузской коалиции, он предоставил ссуды Наполеону и ввел эмбарго на британское мореплавание, одновременно арестовав более тысячи британских моряков. Это был самый опасный шаг, так как, в сущности, вся российская внешняя торговля была в руках сообщества более чем четырех тысяч британских торговцев, постоянно проживавших в Санкт-Петербурге.
Именно эта непоследовательная внешняя политика, по всей видимости, убедила Панина, бывшего дипломата, который в 1800 г. занимал должность вице-канцлера иностранных дел, в том, что Павел должен отказаться от престола в пользу своего сына. Возможно, он имел в виду прецедент с королем Британии Георгом III. В нездоровой атмосфере Санкт-Петербурга, кишащего полицейскими осведомителями, он поделился своими мыслями с графом фон Паленом – человеком, союз с которым был бы весьма ценным, если бы у плана оказались шансы на успех. Пален был вместе с Александром военным комендантом столицы, и оба согласились, что с великим князем необходимо поговорить, прежде чем будут предприняты какие-либо шаги; они решили, что разговаривать с Александром будет Панин.
Александр пришел в ужас от мысли, что может быть втянут в тайный заговор, целью которого являлось бы свержение его императора и отца, и в течение шести месяцев после разговора с Паниным отказывался в нем участвовать. Но события неумолимо побуждали его принять решение. В ноябре 1800 г., когда Павел вдруг обнаружил, насколько неодобрительно его вице-канцлер относится к проводимой им антибританской внешней политике, Панина немедленно сослали в его имение. Отношение Павла к самому близкому окружению, включая императрицу и великих князей, становилось все более враждебным; в начале 1801 г. положение членов царской семьи стало, в сущности, невыносимым. Они часто находились под домашним арестом, император публично оскорблял их, и зашел разговор даже о лишении Александра наследства и заточении его в Шлиссельбургскую крепость.
В таких обстоятельствах Александр наконец согласился с идеей установления регентства, хотя стал с жаром убеждать Палена, что его отцу не должен быть причинен вред. Он даже полагал, что после отречения от престола Павел мог бы по-прежнему жить в Зимнем дворце и пользоваться императорскими резиденциями за пределами Санкт-Петербурга. Пален не питал подобных иллюзий. С самого начала он считал, что Павел ни при каких обстоятельствах не согласится отречься от престола, но участие в заговоре Александра было необходимо, поэтому он пообещал великому князю выполнить его условия.
Так как действия Павла с каждым днем становились все более опасными и непредсказуемыми, Пален сразу же начал плести нити своего заговора. Ему это удалось, так как он пользовался полным доверием императора в основном благодаря дружбе с Кутайсовым и эффективному управлению столицей. Он наполнил Санкт-Петербург офицерами, на поддержку которых мог рассчитывать в случае сопротивления сторонников Павла, и воспользовался своим положением, чтобы добиться прощения для последнего фаворита Екатерины Платона Зубова и его брата Николая, которых император отправил в ссылку.
В феврале 1801 г. Павел, все меньше чувствуя себя в безопасности в Зимнем дворце, переехал вместе с семьей в Михайловский замок – мрачную крепость с множеством оборонительных сооружений и приспособлений, который он построил для собственной защиты. По мере формирования заговора подозрения Павла возрастали. Однажды в начале марта Павел внезапно с подозрением посмотрел на Палена во время одного их разговора и спросил, помнит ли тот события 1762 г., когда был убит Петр III, и не считает ли он, что вскоре они могут повториться. Пален не смутился и холодно ответил, что заговор против императора, несомненно, существует и что он лично его возглавил, чтобы знать все о действиях заговорщиков.
Павел был напуган окончательно. Он вдруг почувствовал, что в столице нет никого, кому он мог бы доверять, и попытался вернуть единственного человека, в безоговорочной преданности которого не сомневался. 9 марта, ничего не сообщив Палену, он послал Аракчееву в Грузино записку, прося срочно приехать в Санкт-Петербург. Но к этому времени Пален уже получал информацию о каждом его шаге; и комендант был достаточно самоуверен, чтобы перехватить записку, показать ее Павлу и предположить, что если император не сообщил ему о своих намерениях, то записка, должно быть, фальшивая. Император настоял, чтобы записку отправили, и наспех написал еще одну записку, но уже Ростопчину, который жил в своем подмосковном поместье: «Вы мне нужны. Немедленно приезжайте».
Пален был обеспокоен попытками императора собрать своих старых сторонников и понял, что должен успеть нанести удар до их прибытия. Он решил действовать 11 марта, когда гвардейцы Семеновского полка, находившегося в распоряжении Александра, должны были нести караул в Михайловском замке. В течение всего этого дня в замке, казалось, наэлектризовалась атмосфера. Павел словно чувствовал измену: он запер дверь, ведущую из его спальни в спальню императрицы, Александра и Константина заставили дать клятву верности императору и затем поместили под домашний арест. Что касается Палена, то он убедил Павла, что полк кавалергардов, охраняющий апартаменты императора под командованием преданного генерала Саблукова, ненадежен, так как кишит якобинцами. Этот маневр оказался успешным; к вечеру Павел отослал стражу, и его единственной охраной были два камердинера, одетые в гусарскую форму, но не вооруженные, стоявшие у дверей его спальни, пока новый полк не успел прибыть.
Для участия в деле Пален выбрал около шестидесяти молодых офицеров, многие из которых потерпели от Павла унизительные наказания. Тем же вечером он собрал их и, изрядно накачав вином, объяснил, что для спасения России император должен немедленно отречься от престола в пользу Александра. Один из офицеров спросил, что делать, если император попытается сопротивляться. «Господа, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц», – сухо ответил Пален.
Ночь была холодной и дождливой. Заговорщики тихо пробрались по темным пустым улицам в замок и заняли выходы под руководством офицера Преображенского полка, который уже их ждал. В замке руководители заговора разделились на две группы: Пален пошел в апартаменты Александра, а генерал Беннигсен и Платон Зубов повели 18 офицеров в спальню Павла. После короткой схватки с двумя камердинерами, ранив одного из них, они ворвались в комнату с обнаженными шпагами. Комнату освещала лишь одна свеча, и сначала они в ужасе решили, что комната пуста. Кто-то воскликнул: «Птица улетела!» Но генерал Беннигсен вскоре заметил напуганного Павла, который услышал за дверью лязг оружия и босой в ночной рубашке стоял за ширмой. «Месье, ваше правление закончено! – крикнул Беннигсен по-французски. – Теперь император Александр. Мы арестуем вас по его приказу. Вы должны отречься от трона!» Так как Павел явно онемел от страха, Платон Зубов повторил эти слова по-русски. «Арестован? Что значит – арестован? – наконец воскликнул император. – Что я вам сделал?»
Павел все еще не понимал, что происходит, но офицеры, обезумевшие от вина и волнения, были не в настроении объясняться с ним. В последовавшей сумятице кто-то уронил свечу, и, когда император начал звать на помощь, огромный Николай Зубов, человек, который четыре года назад принес Павлу в Гатчину весть о его восшествии на престол, схватил тяжелую золотую табакерку и нанес ему сильный удар в левый висок. Кто-то нашел шарф, висевший на кровати, и через несколько минут император был задушен.
Александр испытал приступ горя и отчаяния, когда к нему вошел пьяный Николай Зубов, сообщивший, что его отец «умер от апоплексического удара». Однако необходимость смерти императора была очевидна лишь главным заговорщикам; Александр отказывался реально видеть ситуацию и все еще верил, что его отца можно было убедить отречься от престола. И тогда снова за дело взялся Пален. Грубо встряхнув обессиленного Александра, он резко сказал: «Прекратите вести себя как ребенок. Сейчас покой миллионов людей зависит от вас. Выйдите к солдатам!» Александр повиновался. Задыхаясь от горя, он объявил своему полку со ступеней дворца: «Мой отец умер от припадка апоплексии. Все во время моего правления будет в соответствии с духом и принципами моей возлюбленной бабушки, императрицы Екатерины»47.
В тот вечер, когда погиб Павел, Аракчеев подъехал к воротам Санкт-Петербурга, но его не впустили. Пален отдал приказ не впускать его без специального распоряжения императора. Таким образом, Аракчеев был избавлен от необычайно трудного выбора, перед которым мог оказаться, будучи слепо преданным обоим хозяевам, так как Пален добился участия в заговоре Александра. Аракчеев спокойно вернулся в Грузино и установил бюст Павла в церкви, которую он построил перед своим домом. Бюст был высечен из мрамора скульптором Мартосом; над ним золотыми буквами сделана надпись: «Мое сердце чисто, и мой дух верен тебе».
Александр так никогда и не освободился от страшной вины, которую он чувствовал за смерть отца. «Печаль и раскаяние, которые постоянно оживали в его сердце, были невыразимо глубоки и терзали его; его нравственная пытка никогда не прекращалась», – писал его друг и министр Адам Чарторыйский. Именно поэтому Аракчеев, как человек, который ни разу не предавал своего императора, стал для Александра настоящим символом преданности и верности. Было бы неверно считать, что Аракчеев играл на чувстве вины Александра, как ему это часто приписывают48. Он всегда был предан своему господину. Но он хорошо видел те угрызения совести, которые часто посещали Александра, и был счастлив, что его прежняя преданность Павлу укрепила связь между ним и новым императором.
