Канцлер. История жизни Ангелы Меркель
Text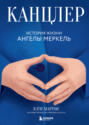


Go to audiobook
- Size: 420 pp. 33 illustrations
- Genre: Biographies and memoirs, popular history, Journalism
Меркель, которую Шиндхельм знал в восьмидесятые, тоже была потерянной душой. Позднее на основе её характера он создаст персонажа для своего романа – Ренату, которую жизнь в Восточной Германии по-настоящему душит. Он называл её «воплощением юной учёной, здраво смотрящей на жизнь. Она несколько лет работала над докторской диссертацией и не ставила перед собой чётких целей. Воодушевление проснулось в ней лишь однажды, когда она рассказывала о поездке по Бранденбургу на велосипеде». Кажется, её волновали ещё и мысли о Западе. «Нас обоих восхищало то, как всё устроено по ту сторону стены, которую мы ежедневно видели во время долгого пути на работу из района Пренцлауэр-Берг в район Адлерсхоф, – писал Шиндхельм. – Чужая система буквально околдовывала нас».
В первое десятилетие жизни в Восточном Берлине Меркель, конечно, находилась в незавидном положении, однако именно те испытания, что она тогда пережила, определят то, каким руководителем она станет. Тогда жизнь обучила её основам не только политики, но и нравственности. В 1985 году Ангелу сильно тронуло выступление, послушать которое повезло лишь немногим жителям Восточной Германии. Благодаря друзьям из лютеранской церкви она добралась до речи западногерманского президента Рихарда фон Вайцзеккера в честь сорокалетней годовщины окончания Второй мировой войны. Ангелу потрясло то, как честно он рассказывал о немецком прошлом. Вайцзеккер открыто рассуждал о Холокосте – и слова его никак не соотносились с тем, что преподавали в восточногерманских школах.
В послевоенные годы Восточная Германия вовсю распространяла собственное историческое знание – мифы о том, что она всегда была антифашистской социалистической республикой и с самого начала противостояла Гитлеру. На занятиях в Темплине и даже во время поездок в Заксенхаузен, концлагерь возле Берлина, в основном говорили о восточногерманских коммунистах и 27 миллионах советских людей, погибших в войне с фашистами. Восточная Германия выставляла себя жертвой, но никак не виновником. «В школе и недели не проходило без разговоров о национал-социализме, – вспоминала Меркель. – Мы со второго класса постоянно посещали концлагеря. А на занятиях всё равно только и говорили о пострадавших коммунистах. Евреев почти не упоминали, а если и упоминали, то лишь тех, кто дружил с коммунистами».
И тут она услышала речь, в которой на историю смотрят совершенно под иным углом. «У нас должно быть и у нас есть достаточно сил, чтобы, насколько это возможно, смотреть правде в глаза, не приукрашивая ничего и не впадая в односторонность. Чем честнее мы отнесёмся к этому дню, тем свободнее мы будем для того, чтобы с чувством ответственности предстать перед его последствиями. Начало тирании характеризовалось безграничной ненавистью Гитлера к нашим еврейским согражданам. Гитлер никогда не скрывал её перед общественностью и сделал целый народ инструментом этой ненависти, – говорил недавно избранный западногерманский президент. И обращался к немцам со словами: – Мы чтим в особенности память шести миллионов евреев, убитых в германских концентрационных лагерях».
То, что президент призывал Германию не забывать о собственном прошлом, потрясло Меркель до глубины души и значительно повлияло на её дальнейшее развитие как политика и как личности. «Мы с Ангелой часами обсуждали эту речь», – говорил Шиндхельм[12]. Как можно будет видеть, Шоа – так она всегда называет Холокост – займёт главенствующее место в политике Меркель и будет подпитывать её твёрдую убеждённость в том, что немцы навеки в долгу перед евреями.
В следующем году в однообразной жизни тридцатидвухлетней Ангелы случилось несколько событий. Осмотрительность принесла свои плоды: Меркель впервые позволили отправиться на Запад. Она поехала в Гамбург – город, в котором появилась на свет, – на свадьбу двоюродной сестры. И очень волновалась. «Я в одиночку ездила в Будапешт, Москву, Ленинград и Польшу, однако эта поездка была иной», – вспоминала Меркель. Она не совсем представляла, как вообще живут люди на Западе. «Мне было непонятно, как женщина может просто забронировать номер в отеле. Моё беспокойство, возможно, было как-то связано с криминальными шоу, которые я смотрела по телевизору», – говорила она.
Однако в Западной Германии она столкнулась не с преступниками, а с высокоскоростным транспортом. «Чудо техники!» – отмечала она позднее. Поезда не только приезжали вовремя, в них ещё и не трясло. Меркель осознала, что Востоку ни за что не превзойти столь продвинутые технологии. Запас немецких марок у Меркель был скромный, однако она приобрела для себя немного качественной западной одежды, а также «две рубашки для возлюбленного». Из поездки она возвратилась убеждённая в том, что ГДР обречена.
Однако Меркель всё-таки вернулась обратно, в том числе из-за того самого возлюбленного, Иоахима Зауэра. «Мне кажется, они уже тогда по-настоящему любили друг друга», – признавался Шиндхельм. Зауэр, выдающийся квантовый химик, был старше Меркель на пять лет и до сих пор не развёлся с женой, такой же учёной-химиком. Двумя годами ранее они вместе с Меркель ездили в Прагу. Тогда Меркель работала в Институте физической химии имени Ярослава Гейровского. По словам Франка Шнайдера, который всё ещё увлечённо доносил на Меркель Штази, парочка «сблизилась» именно в чешской столице.
Зауэр, возможно, и рад был окончательно расстаться с супругой, вот только одному его сыну было всего двенадцать, а другому – четырнадцать. Переехать в другую страну означало оставить детей без поддержки. «А ещё я не хотел, в отличие от остальных, более безбашенных, попасть в восточногерманскую тюрьму», – признавался Зауэр в одном из редких интервью, которое дал в 2017 году газете «Берлинер цайтунг». В итоге они с Ангелой остались в Восточном Берлине и жили по ненавистным правилам, которым, однако, не противостояли открыто. Оба надеялись, что им вскоре придётся забыть о необходимости следить за каждым своим словом и шагом, но они и подумать не могли, что это произойдёт всего через три года, что холодной ноябрьской ночью 1989 года падёт Берлинская стена.

Ноябрь 1989 года. Жители Западного и Восточного Берлина – в том числе и Ангела Меркель – собрались вокруг стены, которая внезапно пала, после того как почти три десятилетия разделяла столицу. Объединение Германии перевернуло судьбу Ангелы Меркель. Теперь она могла начать жизнь с чистого листа уже в качестве политика.
4. 1989 год
Я не уставала: мне было невероятно интересно… Постоянно хотелось действовать.
Ангела Меркель
Берлинская стена пала будто бы совершенно неожиданно. Одно слово – и правительство ФРГ распахнуло ворота для истосковавшихся в заточении жителей ГДР.
Когда во время пресс-конференции, которую транслировало телевидение, спросили, нужно ли жителям Восточной Германии разрешение, чтобы путешествовать на Запад, секретарь информбюро ГДР привычным голосом ответил: «Нет». «Когда новые правила вступят в силу?» – последовало недоверчивое продолжение. «Зофорт» («Немедленно»), – ответил он. «Зофорт» – слово, изменившее историю. Это могло бы быть единственное слово, произнесённое в суматохе и хаосе многолюдной пресс-конференции. Месяцы нарастающих протестов населения «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике» (как сказал британский премьер-министр Уинстон Черчилль в своей незабываемой «Речи о железном занавесе» в 1946 году) при молчаливой поддержке Михаила Горбачёва наконец прорвали дамбу[13].
«Когда я услышала об этом, то позвонила матери, – вспоминала Меркель позднее. – Дома мы постоянно говорили: “Если стена падёт, мы отправимся есть устриц в “Кемпински” – роскошнейший отель в Западной Германии. И вот я говорю матери: “Время пришло”, – а потом отправляюсь в сауну». По четвергам она всегда ходила в сауну. (Немцы, и восточные, и западные, обожают сауну, на Востоке, при коммунистическом режиме, сауна оставалась одним из немногих роскошеств, что могли позволить себе местные.) Несмотря на произошедшее потрясение, восточногерманская учёная-физик не позволяла себе терять голову.
После сауны, отказав себе в привычке выпить пива в ближайшем пабе (где над барной стойкой до сих пор висит её фотография), Меркель присоединилась к толпе людей у моста Борнхольмер и отправилась на Запад, который столько лет был закрыт стеной. Меркель пересказывает эти события так: «Я встретила несколько людей – и сама не заметила, как оказалась в квартире какой-то счастливой западногерманской семьи. Всем хотелось пойти на Кудамм (то есть Курфюрстендамм, моднейший бульвар в Западной Германии)». Однако Ангела размышляла здраво даже в такой исторический момент и решила отправиться домой. «Мне ведь надо было утром на работу, – объясняла она. – Взглянула одним глазком на чужестранцев – и хватит пока с меня». Ангела Меркель всю жизнь провела по другую сторону стены, а потому воспринимала западных немцев не иначе как чужеземцев.
Первое знакомство с Западным Берлином поразило её. Когда она всё-таки посетила Кудамм, увидела сияющие магазины и изящные новые жилые здания – без следов разрушений, – у неё закружилась голова. От того, с какой скоростью начали разворачиваться события в её жизни, голова кружилась не меньше. Режим, навязанный сотнями тысяч агентов в форме и в штатском, за одну ночь рассыпался, как песочный замок. Ангела, которая давно мечтала побывать на Западе, внезапно осознала: перед ней открываются неожиданные и при этом разнообразные возможности. Однако в семье её приучили быть осторожной.
Шли дни, недели, и никто – ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни тем более в некогда всемогущем восточногерманском политбюро компартии – не знал, что делать дальше. Выживет ли так называемая Германская Демократическая Республика? Ни в кого не стреляли, никого не задерживали, ничего не запрещали, никто не пускал слезоточивый газ и не вводил танки – ничто не мешало жителям восточных городов (в особенности Лейпцига и Восточного Берлина), ощутив вкус свободы, выступать против полицейского государства. Впервые режим не обращался к народу через телевизор с предупреждениями о западных «вредителях», никто не пытался силой «восстановить порядок». С каждым днём страх угасал так же, как разваливалась бетонная стена, которую в Восточной Германии называли «Антифашистским оборонительным валом». В том, что теперь всё возможно, люди убедились окончательно, когда в восточногерманских магазинах внезапно появились бананы.
То время было волнующим, но ненадёжным. И тем не менее жизнь Меркель почти не изменилась – лишь разнообразилась несколькими поездками в Западный Берлин. «Через несколько дней после падения стены я отправилась в Польшу на научную конференцию. Там кто-то сказал, что теперь Германия непременно станет единой. Я так удивилась! Потому что не загадывала настолько далеко», – признавалась Меркель. Однако к концу 1989 года она постепенно осознала, насколько бессмысленны её теоретические исследования в академии. Карьера учёной позволяла Меркель использовать свой пытливый ум в безопасной деятельности, однако в новую эпоху, эпоху свободы, сидеть в лаборатории значило впустую тратить время. «Меня удручало, что в течение дня не с кем поговорить», – рассказывала она позднее. Так Меркель задумалась о том, чтобы сменить профессию и изменить жизнь.
Прошло буквально несколько недель, и западные государства под руководством американского президента Джорджа Буша – старшего, а также главы его администрации Джеймса Бейкера помогли совершиться историческому событию – объединению Германии. Оно происходило в основном согласно замыслу канцлера Западной Германии Гельмута Коля. В его планы входили: упразднение плановой экономики и введение выборов на территории Восточной Германии, в которых могли бы участвовать все партии, а не только коммунистическая. Объединение Восточной и Западной Германии оказалось сложнее, чем ожидалось в начале, на волне воодушевления.
Радость оказалась скоротечной, а действительность после четырёх десятков лет мечтаний о свободе и единстве с Западом явно не оправдывала ожиданий. Привычку беспрекословно подчиняться, никому не доверять, жить в строгости и не выделяться среди других так просто не искоренить. Предательства, незначительные и с ощутимыми последствиями (доносы в обмен на место в университете, квартиру или должность) отучили население верить в лучшее и друг в друга. В Восточной Германии государство заведовало и университетами, и здравоохранением, и фабриками, и культурой, а потому почти 40 % жителей напрямую поддерживали режим. Целому поколению немцев промыли мозги, заставив верить, что они – часть первого «рабоче-крестьянского» государства на немецких землях. А тут им вдруг говорят, что они ни капли не отличаются от людей, населяющих ту, другую Германию.
«Мы были беженцами на собственных же землях», – говорил Михаэль Шиндхельм. Восточным немцам пришлось привыкать к превеликому множеству чужих условий и ценностей. Изменилось всё: от здравоохранения (которое больше не было государственным и бесплатным) до образования (где теперь всё зависело от усердия и способностей, а не от «пролетарского» происхождения или преданности марксизму-ленинизму); от социальной жизни до рок-групп. Забылись даже гоблин Питтиплач и утка Шнаттеринхен – любимые детьми персонажи телепередачи, которые в виде марионеток перемещались туда-сюда по войлочной «траве». Считалось, что на Западе жизнь привольнее, однако выяснилось, что ФРГ строга даже по меркам ГДР. На Востоке можно было парковаться где угодно и не платить. Можно было заселиться в пустующую квартиру. «Осси» – так в быту называли людей с Востока – внезапно ощутили себя «бедными родственниками» – неуклюжими, медлительными, с деревенскими повадками.
Жизнь менялась быстро – порой до ужаса быстро. 3 октября 1990 года, когда отмечалось объединение Германии, радостная Ангела Меркель, взлетев вверх по ступеням Берлинской филармонии, заметила полицейского в униформе нового, объединённого государства, и застыла на месте. «Казалось, что это восточный немец, которого внезапно переодели в чужую форму. То же самое я испытывала, когда видела некоторых людей в форме бундесвера [вооружённые силы ФРГ]. Ещё вчера они состояли в восточногерманской армии. Было видно, что это восточные немцы. Догадываются ли западные немцы, с кем им придётся жить рука об руку в одной стране? Понимают ли, чем от них отличаются восточные немцы?» – размышляла она. Меркель боялась, что западные немцы не до конца понимают, насколько суров был режим на Востоке и как он ожесточил своих самых преданных слуг, которые теперь стали жителями и даже полицейскими открытого, свободного Запада.
Ангела Меркель отчаянно пыталась понять и преодолеть эти различия. Одним из первых её западных друзей стал Фолькер Шлёндорф, режиссёр и лауреат премии «Оскар». Они познакомились в Берлине, на званом ужине, и тут же подружились настолько крепко, что Меркель вскоре пригласила Фолькера к себе домой. «Помню, как мы долго гуляли возле её дачи по открытому полю», – вспоминал Шлёндорф. Когда вскоре после этого они беседовали друг о друге, Меркель весело заметила: «Мы, возможно, и научимся жить, как вы. А вот нас вам ни за что не разгадать. Поскольку наш учитель [ «лермайстер» по-немецки] мёртв». Конечно, под «лермайстером» она подразумевала Маркса, Ленина, Сталина и остальных павших идолов коммунизма. И поведать об этом ей, судя по всему, было приятно. Якобы, мы для вас – неразрешимая головоломка, а вас тем временем видно насквозь.
Экономика Восточной Германии обрушилась через несколько недель после объединения. Треть восточных немцев внезапно потеряли работу: полуразвалившиеся фабрики и предприятия, построенные во время перехода к плановой экономике, не в силах были соревноваться с производителями на свободном рынке. Размышляя о том, насколько беспорядочное нынче время, Лотар де Мезьер, который с апреля по октябрь 1990 года был председателем Совета министров ГДР, заявлял: «Я всегда говорю, что у нас есть поколение “ни туда ни сюда” – это люди, которые были на десять лет старше тех, кто ещё успевал сменить профессию, однако на десять лет моложе тех, кто уже мог уйти на пенсию. Своего рода “потерянное поколение”».
Ангела Меркель не намерена была пополнять ряды этого поколения. «Люди Востока решили присоединиться к ФРГ добровольно, – говорила она Херлинде Кёльбль, знаменитому немецкому фотографу, которая начала делать снимки Меркель в 1991 году и за следующие семь лет завоевала доверие будущей канцлерин. – Причины тому были просты и убедительны: экономический и политический порядок на Западе был действеннее, полезнее и разумнее и, что самое важное, свободнее. Никаких “но” и “если”. Нам хотелось быть частью именно этой системы». Меркель искренне недоумевала, почему некоторые «осси» не могут подстроиться под новый порядок так же быстро, как она сама.
«Порой меня до глубины души изумляет, – признавалась она, – насколько некоторые привыкли к Восточной Германии, будто до сих пор не научились о себе заботиться, не осознавая при этом, что экономика Восточной Германии рухнула. По мнению [многих восточных немцев], ничего не изменилось – разве что портреты Хонеккера сняли». Ненавидимый многими Эрих Хонеккер, который долгие годы был председателем восточногерманской Коммунистической партии, ушёл в отставку за два месяца до падения Берлинской стены. Меркель, которой тогда было тридцать пять, лучше многих оказалась готова к переменам душой и разумом. В отличие от тысяч её сограждан, она так и не подчинилась полностью воле полицейского государства. Ещё задолго до ноября 1989 года она решила, что система, основанная на страхе и тотальной слежке за собственным народом, долго не продержится – нужно лишь подождать.
И ожидание стоило того.
В декабре 1989 года Меркель удалось незаметно войти в политику. Многие восточные немцы – те, кто после двенадцати лет нацистского террора сорок лет жил под гнётом коммунистов, стараясь не привлекать внимания, – теперь отчаянно хотели вступать в новые политические партии. «Я знала, что теперь самое время проявить себя в политике», – говорила она. Устав от бессмысленной работы в лаборатории, Меркель радовалась возможности повлиять на будущее недавно освобождённой из плена страны, попутно разнообразив собственную жизнь.
Она была сыта по горло социалистическими опытами, а потому даже не взглянула в сторону западногерманской Социал-демократической партии. «Слишком уж они придерживались своей идеологии», – говорила она. А ещё, пусть даже вслух она ни за что об этом не сказала бы, членство в более правой партии позволило бы ей очередной раз заявить о собственной независимости отцу-социалисту.
Одной из молодых восточногерманских партий был «Демократический прорыв», который вскоре вошёл в состав Христианско-демократического союза. «Демократический прорыв» состоял в основном из консервативных мужчин-католиков, однако Ангеле понравилось, что его участники – серьёзные люди, не приверженные никакой идеологии. Оказалось, что они, в отличие от социалистов, не устанавливают строгих правил и прислушиваются к новым идеям. Кроме того, Ангеле понравилось название партии.
«Хорошо помню, как Ангела пришла на наше первое собрание, – рассказывал председатель “Демократического прорыва” Андреас Апельт. – Она была очень сдержанной, скромной и выглядела моложе своих лет. На ней была бесформенная вельветовая юбка и сандалии, знаете, как у Иисуса. Ещё она носила каре». Увидев запечатанные ящики в углу скромного кабинета, где заседал «Демократический прорыв», учёная закатала рукава и собрала первые компьютеры для партии. В ходе своей политической карьеры Меркель ещё не раз воспользуется как нельзя вовремя подвернувшейся возможностью, едва её приметив. Понаблюдав за ней, восточногерманские новички в политике пришли в восторг и предложили Меркель сесть прямо возле стола. «Ангела упомянула, что работала в Академии наук. Однако даже не заикнулась о докторской степени. Поначалу она только и делала, что всех слушала», – вспоминал Апельт. Возвратившись несколько дней спустя, она уже начала участвовать в разговорах. Ангела Меркель была без ума от политики.
Её научный путь был завершён. «Я была хорошей учёной, однако не из выдающихся: Нобелевской премии я бы не получила», – вспоминала она позднее. Это замечание говорит о многом: ей хотелось заниматься тем, в чём она могла бы достичь высочайших вершин, и Меркель готова была ждать этого хоть десятилетия.
Однако годы научной деятельности не прошли напрасно: «Научное знание повлияло на ход моих мыслей, – позднее будет вспоминать Меркель. – В любом споре я стараюсь мыслить здраво. Подобное удивляет мужчин, утверждающих, что женщины не способны здраво мыслить».
К весне 1990 года Меркель официально уволилась из Академии, чтобы целиком посвятить себя политике. Заметив то, как упорядоченно Ангела подходит к делу и насколько спокойной остаётся в минуты неразберихи, Апельт предложил ей стать спикером «Демократического прорыва»: общаться с журналистами, выступать от имени партии и консультировать руководителей по поводу того, что стоит освещать в прессе. «Её ответ меня удивил. Она сказала: “Мне надо подумать”». Ангела Меркель никогда не спешит. При этом Апельт отмечал, что едва Меркель заняла предложенную должность, то «стоило сказать ей, что тебе нужно сделать вот это к 07:00, – на следующий день в 06:59 оно уже лежало на твоём столе».
Вскоре в политической деятельности Меркель начала просматриваться ещё одна закономерность. В 1990-е нередко получалось так, что влиятельные мужчины – в том числе и её наставники – сходили с дистанции, в то время как она продвигалась вперёд. И пусть она не жгла соперников напалмом, врываться в горящий дом и спасать тех, кто занимался самосожжением, она тоже не спешила. Вместо этого она молча ждала. По природе она была осторожна, однако уже вскоре, когда возможности её расширились, начала проявлять свойственную ей отвагу.

Декабрь 1991 года, Дрезден. Канцлер объединённой Германии Гельмут Коль благожелательно улыбается подопечной, которую называл своей «медхен», на конференции ХДС. Коль как никто другой повлиял на политическую деятельность Меркель, назначив её сначала министром по делам женщин и молодёжи, а после – министром охраны окружающей среды.
