Раны заживают медленно. Записки штабного офицера
Text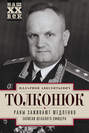


Go to audiobook
- Size: 760 pp.
- Genre: Biographies and memoirs, Books about war
Глава 2
Курсантские годы
1
Киевская артиллерийская школа имени П.П. Лебедева, курсантом которой я был зачислен с ноября 1933 года, размещалась в отдельном военном городке по Воздухофлотскому шоссе на окраине украинской столицы. Это место называлось Соломенкой. Рядом по направлению к аэродрому располагалась школа морских летчиков, а с другой стороны, на некотором отдалении, – 5-я пехотная школа.
Территория нашей школы была ограждена добротным забором с широкими въездными воротами, они круглосуточно охранялись нарядом и открывались по мере надобности. Рядом с воротами имелась калитка для прохода одиночек и небольших групп, следующих без строя по пропускам. Перед городком школы простирался обширный плац, служивший местом различных учебных занятий. Этот плац правым дальним углом примыкал к старому, недействующему кладбищу, поросшему деревьями и кустарником и служившему прекрасным уголком для укромного времяпровождения местной молодежи и курсантов. К плацу подходил трамвай № 8, здесь была его конечная остановка. «Восьмерка» была единственным средством сообщения с центральными районами города. Трамвай всегда набивался пассажирами до отказа.
На переднем плане огражденной территории располагался главный корпус школы – старинное добротное трехэтажное каменное здание, где размещались курсанты. В этом вместимом здании находились: спальные помещения, Ленинские комнаты, учебные классы, столовая, клуб с зрительным залом, спортивный зал и административные службы. В глубине городка – все остальное: манеж для занятий по конному делу, конюшни и открытые коновязи, артиллерийские парки, склады, котельная; в тыловой части было нечто вроде сада – овражистый участок с небольшими деревьями и кустарником. За пределами городка, вне огражденной территории, располагались флигели с квартирами начальствующего состава.
В этом военном городке, куда я вошел сугубо штатским человеком, мне довелось прожить полных три года и выйти из него кадровым командиром Красной армии, лейтенантом-артиллеристом.
И вот, после карантина, одетый с ног до головы в красивую военную форму с тремя буквами «КАШ» (Киевская артиллерийская школа), набитыми желтой краской на черных с красной окантовкой петлицах шинели и гимнастерки, обутый в начищенные до блеска юфтовые сапоги с металлическими подковками и звенящими шпорами, подпоясанный кожаным ремнем с латунной пряжкой, я почувствовал себя другим человеком. Недавнее мальчишество и студенческие вольности быстро вытеснялись из моего характера. Я стал считать себя вполне серьезным человеком, обдумывающим все детали своего поведения, отдающим отчет за каждый поступок. Словом, ко мне пришло понятие, что теперь я по-настоящему человек государственный, целиком отдавшийся на службу своей великой Советской Родине и больше сам себе не принадлежу, моя судьба отныне определяется судьбой страны, судьбой того народа, которому призвана служить Красная армия.
По мере того как я знакомился с историей школы, с героическим прошлым и настоящим РККА, вникал в программу обучения и воспитания, в результате чего курсанты должны будут перевоплотиться в военных профессионалов, во мне все больше и больше утверждалось намерение преодолеть любые трудности и оправдать надежды тех, кто остановил свой выбор на мне, комплектуя школу курсантами.
В воображении смутно вырисовывались три длинных года учебы и трудной солдатской службы, через которые предстояло пройти, прежде чем прикрепить к петлицам два красных кубика и артиллерийскую эмблему и стать командиром взвода. Что придется пережить за эти три года и какая ждет меня командирская судьба после школы – над этим задумываться пока не приходилось: молодость была готова на все.
2
Школа представляла собой хорошо продуманный, четко организованный и прочно сложившийся воинский организм. Она состояла сначала из трех, а затем из четырех дивизионов, командования и управления, подразделений обслуживания и обеспечения. Имелся политотдел во главе с комиссаром школы, редакция и типография многотиражной газеты. Была хорошо оборудованная медицинская часть и, конечно, гауптвахта. Своей бани не было, и курсанты мылись по графику в гарнизонной бане три, кажется, раза в месяц.
Каждый дивизион делился на три линейные батареи и взвод управления. Во главе дивизионов стояли опытные и солидные командиры с тремя шпалами в петлицах: штатная категория, соответствовавшая должности командира полка. Батарея состояла из взводов, делившихся, в свою очередь, на отделения и орудийные расчеты. В батарее было три орудия: 122-мм гаубицы или 76-мм пушки. Позже появились и 152-мм мортиры. Тяга – конная: впрягалось по шесть коней в орудие. Командиры орудий, взводов и начальники постарше имели персональных верховых лошадей.
По строевому расчету школа представляла полностью укомплектованный по штату военного времени артиллерийский полк. В составе полка и его подразделений проходили тактические и тактико-строевые занятия с практической отработкой обязанностей личного состава, огневая служба, строевые занятия, конная подготовка и т. д. Собственно военной службой и занятиями по строевому и боевому расчету, воспитанием, привитием курсантам дисциплины и всевозможных навыков руководили командиры и политработники подразделений; их помощниками были командиры орудий и отделений, помощники командиров взводов и старшины батарей, назначавшиеся из курсантов старших курсов.
Теоретические занятия по всем дисциплинам проводились преподавателями: военные и политические предметы преподавали кадровые командиры и политработники разных служебных категорий, а общеобразовательные – штатские специалисты (вольнонаемные). Иностранные языки преподавали женщины.
За успеваемость, соцсоревнование, состояние дисциплины, боевую слаженность подразделений, внутренний распорядок, несение караульной службы и внутренний наряд несли ответственность строевые командиры. Они пользовались дисциплинарными правами, определенными уставом, имели право поощрять и наказывать подчиненных.
Практические занятия проходили преимущественно в районе артиллерийских парков, конюшен, в манеже и на плацу. На тактические учения и боевые стрельбы в составе дивизиона и полка выходили походным порядком на Дарницкий артиллерийский полигон. Маршрут проходил почти через весь город, что вынуждало по городу маршировать ночью. Местность на полигоне представляла собой бугристое плато, покрытое сыпучими и вязкими песками и сосновыми перелесками. На лето выезжали в Ржищевские лагеря, где был полный простор для всяких учений и стрельб.
Начальником школы первые два года моего в ней пребывания был высокообразованный и опытный артиллерист Алексей Иванович Гофе, носивший два ромба. На третий год школу возглавил известный в то время артиллерийский начальник Т.А. Бесчастнов. Комиссар школы – П.И. Мазепов. Во главе дивизионов стояли солидные и авторитетные артиллеристы Снегуров, Барсуков, Эрикайне.
Военно-теоретические дисциплины вели знающие и любящие свое дело, умеющие вложить в головы слушателей нужные знания высококвалифицированные методисты. Среди них нельзя не отметить таких, как Стрельбицкий – преподаватель тактики артиллерии, Муфель, излагавший теорию устройства орудий и порохов, теоретические основы артиллерийской стрельбы, Брысов, возглавлявший преподавание военной топографии. Он был известен не только как отличный специалист и беззаветный любитель своей специальности, но и как изобретатель знаменитого брысовского круга, облегчавшего подготовку исходных данных для стрельбы, – нечто вроде малой механизации. Видное место занимали и пользовались всеобщим уважением также Коханский, Сухоруков, Ведонеев, Самойлов и др. Все они буквально вкладывали душу, прививая своим питомцам любовь к артиллерии и давая глубокие и прочные знания по этому ведущему в школе предмету.
До поступления в военную школу я имел определенную общеобразовательную подготовку. Поэтому по точным и гуманитарным наукам учился легко и порой без должного интереса. На таких занятиях поначалу я не находил ничего нового и на уроках умудрялся читать художественную литературу и не вести конспектов. Достаточно сказать, что за три года учебы мне удалось прочитать сто один объемистый роман. Чтение на уроках, главным образом на лекциях, и отсутствие у меня конспектов приносили немало неприятностей, хотя я сдавал зачеты и экзамены успешно – выручала память.
Что касается новых для меня, военных предметов, то они меня захватывали, вызывали значительный интерес и поглощали с головой. Особенно полюбились такие темы, как устройство артиллерийских систем, порохов, теория стрельбы, военная топография, военно-химическое дело, ветеринария, история Гражданской войны и некоторые другие. К изучению, скажем, теории стрельбы предварительно подводили разделы из высшей математики: теория вероятностей, теория ошибок и т. д. Изучение военной топографии начиналось, к примеру, с общей характеристики земной поверхности, магнетизма, вращения Земли, естественного рельефа местности, географических и геодезических данных. Это развивало любознательность и привлекало большой интерес к изучаемому предмету.
3
После карантина я попал курсантом взвода управления 2-го дивизиона. Командовал взводом очень старательный, немного суетливый и предельно подвижный блондин лет двадцати восьми – тридцати, по фамилии Садовой. Бросалось в глаза, что он до умопомрачения боялся начальства, но в обращении с подчиненными курсантами проявлял высокомерие и несдержанность, как бы любуясь своей властью над людьми. Это приводило к поспешности в отдаваемых приказаниях и оставляло неприятный осадок; его не полюбили курсанты с самого начала, но, как ни странно, не боялись. Вследствие этого он нередко попадал в неловкое положение: над рядом его поступков подсмеивались откровенно и беззастенчиво. Главной же его слабостью была привычка при любом замечании в его адрес старших начальников сваливать вину на подчиненных. Таких людей не уважают ни начальники, ни подчиненные. Чаще всего выигрывают те, кто вину подчиненных смело принимают на себя, не боясь ответственности, как бы ограждая подчиненного от наказания старшими начальниками, а с провинившимся подчиненным уж сами выясняют отношения. Садовой не обладал такими качествами и потому, по-видимому, почти не продвигался по службе многие годы старательной службы, считая такое положение несправедливым, и вынашивал обиду, которую невольно вымещал на подчиненных. Дивизионом командовал Михаил Михайлович Барсуков, носивший три шпалы. Он отличался всегдашней серьезностью, неразговорчивостью и казался сухим и суровым. Все у него получалось неторопливо и капитально. Если что-либо внушал подчиненному, то делал это своеобразно: не повышал голос, не выговаривал, не упрекал, а тихо и монотонно задавал нудные вопросы один за другим; лучше бы выругал или наказал. Помнится такой случай. Куда-то я стремительно бежал по коридорам, толкая встречавшиеся двери плечом. Проскакивая одну из дверей, я неожиданно столкнулся с Барсуковым лоб в лоб и проскользнул раньше начальника, не уступив ему дорогу, что являлось грубым нарушением если не дисциплины, то субординации; во всяком случае, это был дерзкий, недопустимый поступок. Так поступил я не умышленно, конечно, а второпях, механически, не успев сориентироваться. Командир дивизиона меня остановил, вернул и потребовал повторить встречу с начальником, но уже по всем правилам. Затем состоялся такой диалог.
– Почему вы не уступили мне дорогу?
– Не заметил, товарищ командир дивизиона.
– А почему не заметили?
– Торопился.
– А почему торопились? Куда?
– На построение. Боялся опоздать.
– А почему боялись? Вы трусливы?
– Мало оставалось времени. Я не труслив, но не хотел иметь неприятности.
– А почему оставалось мало времени? От кого неприятности?
Своими вопросами и тоном, каким он их ставил, воспитатель завел меня в тупик. Вдоволь натешившись моей растерянностью, он постоял некоторое время, глядя на провинившегося юнца пронизывающими глазами, и отпустил, приказав, с подчеркнутой вежливостью, доложить о случившемся и полученных замечаниях своему непосредственному начальнику – командиру взвода Садовому. Пришлось выполнить неприятное приказание и получить от отчаявшегося Садового жуткий нагоняй; дело обошлось без дисциплинарного взыскания только потому, что Садовой посчитал это неуместным, поскольку командир дивизиона не приказал наказать меня.
Михаил Михайлович Барсуков два года был командиром дивизиона, в котором я состоял курсантом сначала взвода управления, а потом 5-й батареи под командованием Алексея Михайловича Манило. Много раз за это время Барсуков имел со мной дело. Мы встречались и впоследствии, через многие годы, когда я был уже полковником на войне, а он командующим артиллерией и членом Военного совета Западного фронта, генерал-полковником артиллерии. Последние годы он служил в Главной инспекции Министерства обороны, и в бытность мою начальником штаба и первым заместителем командующего военным округом мы встречались как старые знакомые и часто беседовали по душам. Он всегда считал меня своим воспитанником и говаривал об этом при случае.
Первые месяцы пребывания в школе я испытывал определенные затруднения морального порядка; были некоторые симптомы, порождавшие неуверенность в том, что удастся удержаться в школе и окончить ее. Вот один из таких симптомов.
Зачислив курсантами, нас продолжали досконально проверять. Проверяли не только способности и здоровье, но и социальное происхождение. В результате проверки кое-кто из моих однокашников был отчислен преимущественно по мотивам социального происхождения; у одного выявился факт скрытия им раскулачивания деда, у другого выяснился факт судимости брата или другого родственника, у третьего – имевшийся в свое время батрак у родителей и т. и. Выяснено это было путем посылки представителей школы по местам проживания родителей для проверки анкетных данных на месте. Меня эта сторона дела не беспокоила, хотя впоследствии стало известно, что и на мою родину приезжал человек с такой задачей. Беспокоило другое. Я оставил студенческую скамью в институте, поступив в армию фактически самовольно, без согласия горкома комсомола и комсомольского комитета института, членом которого был избран. Они официально не могли запретить мне поступить в военную школу, но посчитали оставление института нежелательным. Этого я не учел и поэтому с комсомольского учета снят не был. А в военные школы тогда принимались лишь коммунисты и комсомольцы; я поступил как член ВЛКСМ. Стали ставить на комсомольский учет, но моей комсомольской учетной карточки не было. Пришлось обратиться в Нежинский горком комсомола с просьбой выслать документ, подтверждающий мою принадлежность к комсомолу. Ответ не обрадовал: «За самовольное оставление института и убытие без снятия с учета из комсомола исключен…» – гласила официальная бумага. Это влекло непременное отчисление из школы. Куда податься? В институт я возвратиться не мог, пропустив около двух месяцев учебы. Да и самолюбие не позволяло являться с повинной. А исключение из комсомола не вселяло надежды на восстановление в правах студента. В поисках выхода я написал откровенное письмо первому секретарю ЦК комсомола Украины Андрееву. И это решило дело: вскоре из Нежина в политотдел школы пришла моя учетная карточка и меня поставили на учет.
Учиться мне было легко. Из всех предметов на первых порах давалась тяжеловато только физическая подготовка; до школы я систематически физкультурой не занимался, а поэтому оказался немощным. Пришлось наверстывать упущенное самостоятельными тренировками до изнеможения. Давалось мне это дело медленно и трудно. Лишь со временем я смог выполнять положенные по программе сложные упражнения на турнике, брусьях, кольцах, коне. Короче, потребовались месяцы упорного труда за счет свободного времени, чтобы подтянуться до требуемого уровня. И все же физическая нетренированность принесла мне впоследствии серьезную неприятность. Прошла примерно половина первого года обучения. Школа находилась в Ржищевских лагерях, где проводились тактические учения и боевые стрельбы. Командование школы должно было представить в округ сведения о сдаче норм ГТО. Но этот вопрос по какой-то причине упустили и решили по-пожарному организовать сдачу норм без должной предварительной подготовки. Во второй половине жаркого дня нас вывели на исходный рубеж в трусах и майках и приказали бежать по трассе 5 километров. Кросс засчитывался тем, кто пробежит дистанцию, кажется, за 22 минуты. И мы побежали. Параллельно бегущим гарцевал на горячем коне заместитель начальника школы М.А. Буковский: он контролировал бег и подбадривал бегущих, зная, что нас к этому не тренировали и не готовили. Для меня лично этот кросс обернулся тяжелым испытанием: на второй половине дистанции в животе что-то стало подниматься вверх и давить под ребрами; давило все сильнее и сильнее до невыносимости, затрудняло дыхание, сердце готово было вырваться из грудной клетки. Появилась мысль сойти с дистанции, остановиться и отдышаться. Но, стараясь пересилить боль и не подвести товарищей и начальство, я подпихивал кулак поочередно то под правое, то под левое ребро, как бы преграждая путь чему-то тому, что, поднимаясь снизу, невыносимо давило под ребрами. И бежал; бежал. Достигнув с невероятным трудом финиша, лег на землю и постепенно преодолел перебои дыхания и сердцебиения. В норматив по времени я вложился и норму ГТО по бегу сдал.
Через некоторое время в школе организовывался авиационный факультет, предназначавшийся готовить артиллерийских летчиков-наблюдателей, способных наблюдать с самолета цель, места разрывов своих снарядов и корректировать стрельбу по ненаблюдаемым с земли объектам. Отбирали курсантов для этого факультета со вторых курсов. Годность по состоянию здоровья была главным критерием. Проходил врачебную комиссию и я. Но меня забраковали, обнаружив значительное расширение сердца – последствия кросса. Я не стал летнабом, а расширение сердца осталось на всю жизнь.
Вернемся, однако, во взвод управления 2-го дивизиона, куда я был определен после карантина, о чем упоминалось выше.
4
По строевому расчету меня определили коноводом к командиру дивизиона Барсукову. Это была моя первая военная должность.
Командир взвода Садовой долго и подробно меня инструктировал, внушая важность обязанностей коновода; главное – понравиться начальнику. В мои обязанности входило: при подъеме по тревоге я должен был стремительно бежать на конюшню, седлать коня командира дивизиона и своего и ехать к квартире Барсукова, будить его, а когда он выйдет, подержать стремя, чтобы начальнику было удобнее сесть верхом, затем быстро садиться на своего коня и следовать позади начальника, куда бы он ни ехал. Когда начальник спешивается, моя задача – упредить его в этом, держать коня и подавать его снова, как только потребуется. Перед тем как вести коня без седока, стремена должны быть подтянуты плотно к седлу, чтобы не болтались, а перед посадкой следует отпустить их на должный уровень, измерив путлище по длине руки. Все это я уяснил, но был огорчен такой непривлекательной должностью: она мне казалась холуйской и унизительной; с самого начала я искал способ отделаться от такой роли. Но как? Просто отказаться было бы недопустимой дерзостью. Размышления привели к решению повести себя так, чтобы Барсуков сам от меня отказался. И это удалось.
С объявлением первой же тревоги я все делал вопреки полученной инструкции. Оседлав комдивовского Богатыря, серого в яблоках великана, и сев на своего Донца, я поехал к флигелю, где жил Барсуков; постучал в окно и стал дожидаться, не спешившись. Стремена у седла на Богатыре были подтянуты, и я их отпустить не удосужился.
Командир дивизиона вышел, натягивая на ходу лайковые перчатки, посмотрел на меня продолжительно с еле уловимой улыбкой, подошел к Богатырю, попробовал подпруги, отпустил стремена и с необыкновенной ловкостью поднялся в седло. Мы поехали на плац, где ожидал своего командира построенный дивизион. Я держался рядом с начальником, следуя слева. Он подозрительно и с явным любопытством косил на меня левым глазом. Я не забыл, что при приближении к фронту дивизиона мне надлежало отстать и свернуть к флангу строя, но, умышленно этого не сделав, продолжал ехать рядом с Барсуковым.
Вот мы выезжаем на плац, следуем перед строем; комдив останавливается, поворачивает послушного коня головой к строю и здоровается. Я делаю то же самое, но, конечно, молча; поднеся руку к головному убору.
Комвзвода Садовой, стоящий в строю верхом, неистово, но так, чтобы это не было слишком заметно, подает мне знаками требование немедленно удалиться. Но я прикидываюсь простачком, не понимаю, в чем дело, и продолжаю свое.
Дивизион выступает на марш. Барсуков пропускает колонну мимо себя; я тут же рядом с ним, а не позади. Потом он обгоняет дивизион размашистой рысью и какое-то время едет во главе его. Затем снова съезжает с дороги, становится лицом к проходящей колонне, осматривая ее от головы до хвоста. Я не меняю избранную тактику. Садовой кипятится, но покинуть строй и отозвать меня для надира не смеет. А Барсуков молчит, будто не замечая моей дерзости.
На первом же привале я был смещен с должности коновода, как не справившийся с обязанностями. За сорокалетнюю службу в армии это было единственное снятие меня с должности; огорчаться не следовало, так как снят я был без понижения: понижать некуда, ибо более низкой должности не было. Меня лишили персонального коня и направили во взвод для следования пешим порядком. А несчастный комвзвода Садовой получил от комдива нагоняй и замечание за неудачный подбор коновода.
Меня определили в отделение связи коммутаторщиком, проинструктировали и вручили технику: коммутатор «КОФ». Это была небольшая коробка с плечевым ремнем. Аппарат рассчитан на шесть номеров и использовался для управления огнем дивизиона: к нему подключались телефонные провода, соединяющие наблюдательные пункты батарей с наблюдательным пунктом дивизиона. Я должен был слушать подаваемые команды и повторять их для абонентов, переключая то и дело соответствующие кнопки. Дело простое, и освоить его не представляло труда.
На одном из учений на Дарницком полигоне комдив ехал на своем Богатыре быстрой рысью из района огневых позиций на НП. Поравнявшись с местом, где я сидел со своим «КО-Фом», Богатырь попал в занесенную снегом песчаную траншею, свалился, перевернувшись через голову, и повредил себе передние ноги. Барсуков ловко вывернулся из-под падающего коня, но все же здорово ушибся и не мог подняться. Я кинулся к нему, глубоко утопая в мягком снегу, перемешанном с песком, и помог командиру подняться, отряхнул с него снег, поправил съехавшее с плеч снаряжение, отыскал оброненный бинокль. За этот подвиг мне была объявлена устная благодарность.
Через некоторое время меня назначили командиром отделения связи. Таким образом, я стал уже не просто курсантом, а начальником, командиром, имеющим в подчинении своих сокурсников и товарищей.
За время обучения в школе я занимал ряд должностей младшего комсостава: после командира отделения связи я был командиром вычислительного отделения, подготавливавшего исходные данные для стрельбы с использованием измерительных инструментов, специальных таблиц и полевого планшета; был командиром орудия, помощником командира огневого взвода. Командирская должность, конечно, приносила лишние хлопоты, взваливала на курсанта дополнительную нагрузку и ответственность, но была полезной: давала определенную командирскую практику, прививала навыки работы с людьми, учила пользоваться предоставленной властью, развивала чувство ответственности; создавала хоть маленький, но авторитет. Курсантам, занимавшим должности младших командиров, платили рублей на пятнадцать больше в месяц, чем рядовым курсантам. А главное, они, как правило, имели закрепленных коней и в походах, на стрельбах и учениях ездили верхом, а не ходили пешим порядком, что немаловажно.
На тактические учения и для проведения боевых артиллерийских стрельб мы выходили зимой на Дарницкий артиллерийский полигон, где буквально утопали в песках, перемешанных конскими ногами и колесами орудий с сыпучим снегом, а летом выезжали на Ржищевский полигон, добираясь туда по Днепру на баржах. Там мы проводили в напряженной учебе почти все лето.
Если Дарницкий полигон отличался песками и огромным сосновым лесом, затруднявшими передвижение и ограничивавшими видимость, так нужную артиллеристам, то Ржищевский полигон имел свои особые условия: песчаные бугры, поросшие кустарником вроде лозняка; между буграми – болотистые впадины с массой малярийных комаров. Огромные желтые насекомые нас буквально заедали; работать на планшете ночью из-за них было настоящей пыткой: при освещении планшета фонарем, без чего работать нельзя, они сплошной массой облепливали лицо, шею, руки, лезли в глаза, нос, уши, рот, противно звенели и очень болезненно кусали. Проведешь по щеке или лбу рукой – и сгребаешь липкие ломти грязи, образовавшиеся из смятых насекомых. Большая часть побывавших там курсантов переболела малярией. Заболел и я. Эта скверная болезнь протекала в тяжелой форме: сначала поднималась высокая температура, делавшая человека беспомощным, угнетала и высасывала силы; болела голова, бросало в дрожь. Постепенно болезнь переходила в хроническую и не отпускала годами: время от времени проявлялась приступами – повышенная температура, дрожь тела, ощущение зябкости, потеря аппетита. Она провоцировалась при охлаждении или перегреве тела, отдельными видами пищи: дыня, спелые помидоры, виноградное вино и т. д. Лично меня малярия преследовала лет десять; она исчезла незаметно во время войны на фронте, видно не выдержав тягот фронтовой жизни. Медицинская служба старалась лечить больных и проводила профилактические мероприятия: хинизация тогда была единственным средством борьбы с этим коварным заболеванием, и то малоэффективным. Всех нас поили жидкой хиной – самая противная процедура, какие я только знал. Давали хину и в порошках. Это только приглушало болезнь какое-то время, но не избавляло от нее.
Мне, как пострадавшему от малярии, показалось, что принимаются не все меры для избавления людей от этого несчастья. И вот я написал фельетон и послал в газету «Красная звезда». Фельетон назывался «СОН». В нем говорилось, что однажды в малярийном бреду мне приснился начальник Центрального медицинского управления Красной армии. Будто его принес в зубах к нам на полигон исполинский малярийный комар. В иронической форме излагались всяческие приключения в борьбе высокопоставленного медика с малярийным гигантом; побеждал комар, а не человек, вооруженный медицинской наукой. Фельетон не был напечатан, но из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования и принятия мер на месте. Последовали конкретные мероприятия; стали заливать нефтью с самолетов болотистые места, как первоисточники комариного нашествия. В результате комаров заметно уменьшилось, меньше стало маляриков.
Здесь уместно вспомнить и о другом моем фельетоне, направленном на борьбу за справедливость и защиту человеческого достоинства. Дело было так.
Первые месяцы нас не пускали в городской отпуск: на всю школу был наложен общий карантин в связи с какой-то эпидемией среди местного населения – грипп или что-то другое, вызывавшее массовое заболевание. Всю зиму мы не выходили за ворота школы, кроме как в баню, на учебный плац или на полигон, и то только в строю. Впервые разрешили увольнение, кажется, в апреле. Порядок бытовал такой: желавшие пойти в город после завтрака до обеда или после обеда до отбоя, а иногда и на целый день записывались у командира отделения, и список передавался старшине батареи; старшина докладывал командиру батареи на утверждение. Уходящим выдавались увольнительные записки. Старшина выстраивал увольняемых, тщательно осматривал и инструктировал правилам поведения в городе, а затем строем вел их к дежурному по школе. Тот тоже придирчиво осматривал внешний вид, проверял на выдержку знание правил поведения и давал разрешение на выход строем за ворота. Пройдя ворота, строй распускали; курсанты стремглав бросались к трамваю, силой вталкивались в переполненный обычно вагон и ехали в центр города, где и бродили: кто просто шлялся по Крещатику, кто шел в кино, кто в парк, а кто к знакомым или родственникам. Для наблюдения за поведением курсантов в городе назначались командиры подразделений; это же входило в обязанности всех начальников, оказавшихся на улицах и в общественных местах. Прогуливавшемуся курсанту приходилось смотреть в оба, чтобы вовремя увидеть старшего и первым отдать честь или не быть замеченным с папиросой в зубах.
Пошел и я в первое увольнение. Собственно, идти было некуда; родственников и знакомых у меня в городе не было, я просто решил пошататься по Крещатику, посмотреть его достопримечательности. Возвращаюсь и по установленному правилу иду к дежурному по школе с докладом о возвращении и что за время моего нахождения в городском отпуске замечаний и предупреждений не имею. Дежурный приказывает идти в санчасть на санитарный осмотр. Иду – раздеваюсь до пояса и подвергаюсь осмотру на вшивость; проверка, не принес ли в школу городскую вшу. Не принес. Делают отметку в увольнительной записке, это дает право идти в подразделение.
Давно заведенная в школе неприятная процедура ни у кого не вызывала протеста, но меня она возмутила и толкнула написать первый в жизни фельетон (это было раньше фельетона о комарах). Ни с кем не посоветовавшись, тайком от товарищей и начальства пишу фельетон под названием «Вошь и санчасть». В нем язвительно, в сатирической форме высмеивался порядок возвращения курсанта из увольнения: факт проверки на вшивость рассматривался как унижение достоинства советского человека, недоверие к нему; косвенное оскорбление киевлян, с которыми могло быть общение уволенного курсанта. Послал свое творение в окружную газету. Мне не верилось, что фельетон может быть опубликован, но думал таким путем добиться отмены унизительного осмотра на вшивость, хотя, кажется, никто, кроме меня, не считал это унизительным и неправомерным. Прошло несколько дней, я уже было чуть ли не забыл о фельетоне, как случайно встретился в коридоре с комиссаром школы П.И. Мазеповым. знавшим меня в лицо. Вместо ответа на приветствие, комиссар остановил меня с необычной для него веселостью:
