Время колоть лед
Text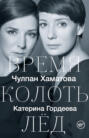


Go to audiobook
- Size: 630 pp. 92 illustrations
- Genre: Biographies and memoirs, stories from the life, Cinema and theater, Journalism, Television
ХАМАТОВА: В Казани было иначе: существовали темы, про которые было просто принято молчать. Но они всё равно вскрывались: никаким страхом их никуда было не загнать, никаким запугиванием не скрыть. Моя мама выросла в доме своей бабушки, у которой было пять дочерей. И все они со своими семьями в этом доме жили. А прабабушка, то есть мамина бабушка, была главной женщиной в доме. И вот как-то моя мама, еще совсем девочка, пришла домой с красным галстуком поверх пальто, страшно гордая тем, что ее только что приняли в пионеры. Прабабушка сидела у печки, шевелила кочергой угли. Мама радостно заявила: “Бога – нет!” И бабушка, не поворачиваясь, – бум ей по башке кочергой. У мамы остался шрам. Но про то, что можно и нужно говорить в школе, а что – дома, она запомнила навсегда.
ГОРДЕЕВА: Но это не сподвигло никого начать, например, дома разговаривать по-татарски? У нас было ужасно смешно: моя бабушка помнила немного идиш, а дедушка знал в совершенстве немецкий, на нем в его семье говорили. Так вот они понимали друг друга. И, когда хотели говорить о чем-то тайно, говорили на идише-немецком таком, своем.
ХАМАТОВА: Это всё – страшное наследие сталинского времени: нам предлагалось родиться и прожить свою жизнь в абсолютном отрыве от своих корней, в полнейшем незнании национального, семейного, генетического; у нас это было отнято по факту нашего существования, системе нужен был человек без прошлого. Моя бабушка дома говорила по-русски, но татарский она знала. Дедушка играл на аккордеоне военные песни, но и татарские тоже. Мы всегда пили чай из пиалы… Всё это было так неочевидно и так зыбко. И вот все эти обрывки, кусочки воспоминаний начали всплывать у меня в голове, когда я стала читать роман Гузели Яхиной “Зулейха открывает глаза”.
ГОРДЕЕВА: Помню, ты его прочитала и сказала, что никогда отчетливо не мечтала ничего сыграть, но вот теперь мечтаешь – Зулейху.
ХАМАТОВА: Мне казалось, что героиня моложе и вообще – это не я. Но потом я поговорила с Гузель, и выяснилось, что она представляла меня, когда работала над романом. И она очень многие вещи интуитивно точно описала – как будто знала что-то про мою семью. Я даже дядю Чулпана уговорила прочесть эту книгу. И дядя, который ничего про те времена не хочет слышать, прочитав, сказал: “Правильно ты меня уговорила”.
ГОРДЕЕВА: Теперь ты будешь играть, наконец, Зулейху в новом фильме.
ХАМАТОВА: Я волнуюсь. Знаешь, мне эта книга позволила собрать хотя бы фрагмент своей личной истории воедино – сложить разрозненные, крошечные пазлы, не соединяющиеся друг с другом.
ГОРДЕЕВА: Вернемся к тому, что на татарскую кафедру в Институт культуры ты не пошла. Ты начала рассказывать, как человек с кафедры пришел и потребовал, чтобы ты выучила язык…
ХАМАТОВА: И его предложение меня, надо сказать, ошеломило. Но неожиданно женщина, которая вела наши курсы, – замечательная, сильно выпивающая, но очень чуткая женщина, – буквально встает на дыбы и говорит: “Какая еще татарская кафедра? Вы что, не видите, она насквозь пропитана русской литературой? Мы ее не отдадим. Она будет поступать к нам”. Это был какой-то первый знак, первый маячок, что, может быть, всё не зря, что надо не переставать пробовать. Что есть у меня или на меня какая-то все-таки надежда.
Глава 5. “Можно я не буду увядать?”
ГОРДЕЕВА: А каким образом обнаруживают артистические способности в ребенке, в подростке? Как это можно разглядеть? Вообще, настоящий артист – это больше подаренное или наработанное?
ХАМАТОВА: Это подаренное. И в подростковом возрасте уже, как правило, хорошо видно, есть или нет.
ГОРДЕЕВА: Есть – что?
ХАМАТОВА: Вера.
ГОРДЕЕВА: Это как?
ХАМАТОВА: Ну, вера. Вот стоят перед тобой два человека, и ты говоришь: “Идет дождь”. И по одному видно: идет дождь или на самом деле не идет, а по другому не видно. Он может как угодно кривляться, изображать, что ему сыро, прятаться от дождя, но у него нет этого! А тот, первый, выходит, и ты видишь вместе с ним дождь, чувствуешь его, мерзнешь и мокнешь. Если маленький человек способен передать тебе это состояние – это дар.
ГОРДЕЕВА: При этом он же еще должен не стесняться, так? Потому что стеснение дар, возможно, скроет.
ХАМАТОВА: Если ты действительно видишь дождь, то ты можешь сколько угодно продолжать стесняться, но видеть дождь. Даже среди взрослых артистов есть люди, которые свое стеснение преодолевают всю жизнь и для них каждый выход на сцену – преодоление, а не то что “я вышел и сейчас вас буду поражать”. Но дара это не отменяет и не влияет на него. Дождь или есть или нет.
ГОРДЕЕВА: Значит, в тебе почувствовали человека, который “видит дождь”?
ХАМАТОВА: Наверное, они что-то такое увидели во мне, потому что вопрос о моем поступлении встал ребром. И пробил тот страшный час, когда мне, наконец, пришлось предупредить родителей, что я несусь по пути порока с невероятной скоростью. Я поговорила с мамой. Если коротко, мама была в ужасе. И она рассказала о моих страшных планах нашей соседке, учительнице русского языка и литературы Маргарите Александровне, про которую маме было известно, что когда-то давно Маргарита Александровна мечтала быть актрисой и певицей, но нашла в себе силы наступить на горло собственной песне и пошла в педагогический. Моя мама подразумевала, что Маргарита Александровна, с высоты своего жизненного опыта, поговорит со мной и даст какой-нибудь дельный совет. Например, скажет: “Посмотри, как прекрасно сложилась моя жизнь. Забудь ты про эти артистические бредни”. Но Маргарита Александровна сказала совершенно другое: “Институт культуры, – сказала она, – это полная ерунда. Там выпускают непрофессиональных режиссеров деревенских театров и непрофессиональных артистов студий при заводских дворцах культуры. Годится только для кружков и секций. Если ты хочешь заниматься серьезно театром, – сказала она, – ты должна поступать в профессиональное театральное заведение, каким является Казанское театральное училище”. Тут маме стало совсем плохо. Потому что ты же понимаешь ситуацию: я неплохо заканчивала школу и вот-вот должна была поступить в высшее учебное заведение. А тут – какое-то театральное училище! ПТУ, куда идут, как думала мама, все эти девятиклассники, которых не взяли учиться ни в старшие классы школы, ни в другое приличное место. Караул: ее дочь идет в ПТУ!
Чтобы не обострять, я продолжаю сдавать экзамены в школе и поступать в финансовый институт. Но как только я туда поступаю, бегу в театральное училище, успевая, правда, только на последний тур. Но мне везет. Экзамены принимает Вадим Кешнер, великий артист казанского БДТ имени В.И. Качалова. В момент встречи с ним надежды на то, что всё само собой рассосется, мне скажут “вы непригодны”, я вернусь домой, и у меня не будет ни конфликтов с родителями, ни дальнейших стремлений изменить свою жизнь, рухнули. Вадим Валентинович сказал: “Приходи и приноси документы. Всё”.
ГОРДЕЕВА: Послушай, но вот если, как ты говоришь, дар “чувствовать дождь” понятен при первой встрече, если Кешнер сразу же понял, что ты – артистка, а не бухгалтер, то откуда берутся страшные истории про великих артистов и артисток, поступивших в театральное только с какого-нибудь пятого-десятого раза?
ХАМАТОВА: А кто тебе сказал, что в приемной комиссии всегда сидят люди, которые чувствуют?
Знаешь, как проходит первый тур? Я единственный раз участвовала в наборе абитуриентов у своего мастера в ГИТИСе, и мне это очень запомнилось. Так как количество желающих зашкаливает за триста человек на одно место, то люди, которые приезжают со всей страны, пытаются поступить во все театральные вузы одновременно. Думаю, кстати, что слез и ошибок было бы меньше, если б они хотя бы точно знали, куда и к кому хотят попасть. Но абитуриенты, так годами заведено, используют все возможности. Отсмотреть их всех мастер курса просто физически не способен. Поэтому на предпрослушиваниях – тех, что идут еще до экзаменов, – просят посидеть либо молодых артистов, либо студентов, которые только что выпустились, либо кого-то из будущих преподавателей. Как-то на таких предпрослушиваниях я сидела со своей однокурсницей, довольно средней артисткой с очень плохим характером. И она отсеивала всех. Просто так.
ГОРДЕЕВА: А ты?
ХАМАТОВА: А я, наоборот, всех брала. Мне эта ответственность – вершить судьбу – страшно не нравилась. И я с ужасом смотрела на то, как она всех отсеивала, требуя от абитуриентов немыслимых высот профессионального мастерства. Я пыталась ей объяснить, что это просто дети, нужно постараться разглядеть в них природу. Но тщетно. Стоило мне выйти из аудитории, как она отсеивала всех и каждого. Я вполне допускаю, что могли не пройти и какие-то хорошие ребята.
ГОРДЕЕВА: Но тебе-то повезло. В приемной комиссии сидит великий Кешнер. И он тебя берет без разговоров.
ХАМАТОВА: И передо мной встала самая страшная задача, точнее, две: во-первых, сообщить новость маме, а во-вторых, забрать документы из финансового института. При этом на наш факультет в институте конкурс был сумасшедший, а в театральное училище – никого. На наш курс в училище пришли какие-то уж совсем отчаявшиеся люди, которые ни на что не были годны, плохо учились в школе и не имели шансов никуда поступить, от безнадежности пришли учиться на артистов.
Мне в институте документы не отдали. Их пришлось забирать моей героической маме. По пути за документами она встретила моего любимого учителя математики, который, узнав о случившемся, сказал: “Я ее прокляну”. Но мама все равно забрала документы, обливаясь слезами.
Я отчетливо помню, как на следующий день шла с документами в театральное и понимала, что сейчас что-то делаю со своей судьбой такое…
ГОРДЕЕВА: Какое?
ХАМАТОВА: Непоправимое! Конечно же, я была подростком и не могла предвидеть ничего из того, что потом случится. Но я навсегда запомнила ощущение внутреннего страха: прямо сейчас своими руками я меняю свою жизнь. Я пыталась себя уговорить, что поступаю правильно, что это и есть моя судьба. Мне было шестнадцать лет. Я шла и вслух твердила: “Я не хочу ни славы, ни популярности – ничего. Я хочу, чтобы мир изменился к лучшему. Пусть даже не весь мир, хотя бы мир одного человека в зрительном зале – как это случалось со мной на спектаклях”. И, наверное, это желание, искреннее желание, позволило мне внутренне снять с себя проклятие моего любимого учителя и отпустить себя в эту неизведанную бездну. “Я смогу что-то изменить к лучшему”, – сказала я себе. И почему-то в это поверила.
ГОРДЕЕВА: Важно ведь еще и то, что ты изменила историю своей семьи. Вот эту династическую стабильность, свойственную советскому обществу, когда из года в год, из поколения в поколение все идут по одной и той же колее. Ты это изменила. И я, кстати, тоже. Я не стала инженером-строителем, как мама, папа, бабушка или дедушка. В этом не было никакого вызова. Просто так получилось. Это, надо полагать, типичная история в нашем поколении. На моих родителей огромное впечатление произвел тот факт, что я пошла даже не во врачи – в журналистику. К их чести, они ни разу не заикнулись о том, чтобы я стала инженером. Вероятно, понимали, что в новых обстоятельствах это тупик.
ХАМАТОВА: Мои тоже изо всех сил держали себя в руках. Однако я-то понимала, какой удар им нанесла, отринув обещавшую стабильность профессию бухгалтера-финансиста.
ГОРДЕЕВА: Выбор, который мы сделали, к тому же подразумевал довольно скорый отъезд. Даже в городах-миллионниках перспектив у людей творческой профессии был минимум. Мне кажется, я лет в пятнадцать ясно представила, что со мной будет дальше: редактор отдела в газете, что-нибудь эпатирующее на телике, а потом – что? И это как-то всегда висело в воздухе: ехать надо. Разумеется, в Москву. Отъезд – тоже нарушение традиций и удар по родителям. Мои выдержали его стойко.
ХАМАТОВА: Моим было трудно. Но они старались принимать меня, не всегда понимая, но всегда веря. Это очень важно, когда тебе, в тебя – верят.
Знаешь, мне вот кажется, Катя, что целеустремленность, свойственная нашему поколению, как правило, проявляется у людей, которые рано начали сами отвечать за себя. И это не могло не раздражать москвичей, в чей город мы рванули в начале девяностых. Помню, как мне моя однокурсница-москвичка сказала: “Ну конечно, ты же провинция, поэтому ты будешь рваться вперед и всех расталкивать локтями. Тебе во что бы то ни было надо быть первой”. Хотя это неправда. Я никогда и никого в жизни не расталкивала. И вовсе мне не надо было быть первой, мне просто очень хотелось получать удовольствие и понимать профессию.
ГОРДЕЕВА: И иметь в ней перспективу.
ХАМАТОВА: Возможность получать удовольствие – это и есть перспектива, как я ее себе представляю.
Но многие москвичи часто использовали именно этот аргумент: мы уже родились с тем, к чему вы так стремитесь. Они наивно полагали, что нам нужны прописка и принадлежность к их кругу. Но нам было нужно другое – возможность реализовать себя и попытаться исполнить свою мечту. Обвинить нас в стремлении жить на “их Арбате” – это, конечно, сколь шикарное, столь и беспомощное оправдание их бездействия.
ГОРДЕЕВА: А речь о том, что ты поедешь в Москву, зашла сразу же, как только ты поступила в училище?
ХАМАТОВА: Нет. Вначале ничего такого не предвиделось. Папа с мамой мужественно приняли известие, что я буду (возможно, временно) учиться в театральном училище. И тут наступила осень. Я ходила на занятия в каком-то тумане, просто наслаждалась самим фактом существования мира, города, училища и себя во всем этом антураже. Театральное училище в Казани находится рядом с художественным: в красивом аристократическом районе старого города, где много тенистых парков и дореволюционных домов. Сам поход туда – уже невероятное удовольствие.
К тому же выяснилось, что в паре с Вадимом Валентиновичем Кешнером у нас на курсе работает великая Юнона Ильинична Карева. Она не принимала экзамены, потому что уезжала в Москву к сыну Серёже, Сергею Говорухину, сыну Станислава Сергеевича Говорухина. А потом Юнона Ильинична вернулась в Казань. Но в воздухе все равно висело, что она рано или поздно туда уедет; сколько я Юнону знала, она, как чеховские “Три сестры”, рвалась в Москву, только что-то ее постоянно не пускало. Вначале она жила в Казани потому, что там жил Говорухин, в смысле Станислав. Потом – потому что Серёжа. Но Серёжа уехал, поступил во ВГИК, а она осталась в Казани. Она была звездой, красавицей, примой нашего казанского Качаловского театра. В семидесятых набрала курс с Кешнером, тоже красавцем и звездой Качаловского театра. Потом эти курсы стали легендой театральной Казани, да и всей страны. Карева и Кешнер стали выдающимися театральными педагогами. И Юнона опять не уехала. Потом, когда Серёжа уже жил в Москве, время от времени вдруг опять возникал слух: Юнона, может быть, сейчас сорвется и все-таки уедет, Серёжа купит ей квартиру, она посвятит себя ему; тогда в училище объявлялось, что вот этот ее курс – последний курс, и всё! Но наступало первое сентября. И снова набирался курс. И так продолжалось до самого конца.
Мне запомнилось, что у Юноны были грустные глаза. Всегда. Даже когда она улыбалась, глаза оставались грустными. Я часто говорила ей: “Юнона, почему вы так грустно улыбаетесь? Вы не могли бы улыбаться, ну, по-настоящему?” И она трогательно пыталась улыбнуться по-настоящему. Но у нее так это получалось, что сразу хотелось плакать.
ГОРДЕЕВА: Она так и не уехала из Казани?
ХАМАТОВА: Нет. Удивительная история. И удивительно, как жизнь позднее меня свяжет и с Юноной, и с Серёжей Говорухиным. Но этому только еще предстоит случиться. А пока я занимаюсь у двух великих педагогов, у Каревой и Кешнера, которые, безусловно, сыграли важнейшую роль в моей жизни. Как они доверяли ученику, как помогали ему раскрыться…
ГОРДЕЕВА: Как?
ХАМАТОВА: Например, у нас на курсе было такое упражнение, называлось “Расцвет и увядание”. Ты, как цветок, расцветаешь, а после увядаешь, умираешь. Мы выполняли это упражнение каждый день перед началом занятия как разминку. И представляешь, я не могла увядать! Расцветать – расцветала, всё было хорошо. А когда начиналось увядание, я не могла – принималась плакать. Для моей психики это было слишком серьезным испытанием, я больше ничего уже делать не могла – ни учиться, ни задания выполнять. Эта разминка меня эмоционально подавляла. И я пошла к своим любимым педагогам и спросила: “Скажите, а можно я не буду увядать?” Мне ответили: “Хорошо, конечно”. И с тех пор я только “расцветала”, а как весь курс “увядает”, смотрела со стороны.
В Москве мне, разумеется, такого не позволяли – никого не интересовало, как сильно я куда-то там погружаюсь. Таких сентиментальных и расположенных к студенту педагогов больше в моей жизни не было.
ГОРДЕЕВА: Потому что – Москва?
ХАМАТОВА: Просто другой подход. Хотя нет, вру. Был один случай: меня студенткой вводили в сказку “Звездный мальчик” в РАМТе, Российском академическом молодежном театре. А он шел под такую пессимистическую, минорную музыку. Я пошла к Алексею Владимировичу Бородину, своему мастеру курса в ГИТИСе, и попросила: “Можно меня не вводить в этот спектакль? Я с ума схожу от музыки, она меня расстраивает”. И он сказал: “Ладно”. Но это было всё же исключение из правил.
ГОРДЕЕВА: Как Юнона тебя вообще в эту Москву отпустила?
ХАМАТОВА: Не просто отпустила. Своими руками отправила. Это тоже невероятно. Еще с зимы моего первого курса Юнона стала говорить о Москве. И она, и Кешнер честно признавали, что в Казани никакого нормального будущего у меня не будет, надо ехать в Москву.
ГОРДЕЕВА: Послушай, но это же человеческий подвиг: отказаться от лучшей ученицы курса, своими руками отправить в Москву ту, которая…
ХАМАТОВА: …могла сделать просто всю их педагогическую карьеру; а она в тот период для них была очень важна. Потому что для обоих, и Каревой, и Кешнера, педагогика была самым важным делом в жизни. Я уверена, на тот момент они были самыми лучшими театральными педагогами страны. То, что я попала на их курс, – это, конечно, судьба. Их студенты участвовали, кажется, во всех театральных фестивалях, бесконечно гастролировали. И вот на одном из фестивалей Юнона посмотрела спектакль “Наш городок”, который Алексей Владимирович Бородин подготовил со своим выпускным курсом. Вернувшись, совершенно потрясенная Юнона сказала мне: “Только к Бородину. Никаких «фоменок» и прочего. Только туда”.
Вскоре Юнона поехала отдыхать в Рузу, в Дом творчества, и встретила там Евгения Вацлавовича Дворжецкого, который на будущий год как раз вместе с Бородиным набирал в ГИТИСе курс. И Юнона ему говорит: “У меня есть такая девочка…” И расписала меня, как могла. Женя сказал: “Давайте посмотрим. В общем порядке. Пусть приходит на прослушивание”.
ГОРДЕЕВА: Это каким авторитетом должна была обладать Юнона Карева из Казани, чтобы вот так запросто поговорить про свою студентку с Дворжецким?
ХАМАТОВА: Дело в том, что мама Дворжецкого, Рива Яковлевна Дворжецкая, сама преподавала (и до сих пор преподает) в нижегородском театральном училище. Она очень известный и авторитетный российский театральный педагог. Так что сын ее, московский артист Евгений Дворжецкий, в силу семейных обстоятельств был погружен в систему провинциального театрального образования.
ГОРДЕЕВА: Выходит, не проучившись в Казани и года, ты понимаешь, что вот-вот окажешься в Москве.
ХАМАТОВА: Тяжелее всего мне далась логистическая часть этого перемещения: Юнона записала мне телефон некоей Алёны Каминской, дочки Каминского, который в шестидесятые годы был звездой КВНа в Казани, а потом переехал в Москву и был звездой КВНа уже в Москве. Алёна и ее мама станут моими ангелами-хранителями в первый московский год.
Я довольно долгое время не могла даже сообразить, как вообще звонить в Москву из Казани. Неделю не дозванивалась и не понимала, что не так: никто из моих родственников, соседей и друзей никогда в Москву не звонил. Все эти “восьмерка, гудок, ноль девять пять”… мне были неизвестны! В конце концов кто-то мне объяснил, я дозвонилась, и прекрасный голос мне пообещал, что перезвонит, когда узнает, какие там, в ГИТИСе, условия поступления. И всё. Проходит день, неделя – ни звонка, ни весточки. Я помню это тягучее ожидание: вот я каждый день сажусь готовиться к занятиям, включаю настольную лампу, смотрю на телефон, который стоит на моем письменном столе; на тетрадку, открытую передо мной, ложится мой кот, греется под лампой. А я не могу ничего делать, я только смотрю на телефон. Может быть, это ожидание продолжалось не так уж долго, но мне, девочке, которая ждет звонка из Москвы, казалось, что очень долго.
Но вдруг примерно таким же вечером – тетрадка, лампа, кот – раздается звонок, и мне объясняют, что тогда-то надо приехать в Москву, туда-то прийти, и будет прослушивание.
ГОРДЕЕВА: Ты рассматривала только ГИТИС и только курс, который набирали Бородин с Дворжецким?
ХАМАТОВА: Конечно! Я мечтала попасть только к тому мастеру, к которому велели Юнона с Кешнером.
ГОРДЕЕВА: Жалела потом об этом?
ХАМАТОВА: Я на втором курсе пожалела. Но сейчас совсем не жалею, сейчас мне ясно, зачем всё это было. А тогда… Понимаешь, у нас, у Бородина, на втором курсе была такая школа-школа. А у студентов Петра Фоменко – полная свобода. Например, нам запрещалось делать этюды под музыку, потому что музыка – помогает, а у “фоменок” все этюды были под музыку. Мы с ними учились в параллельных потоках: у Фоменко – актерско-режиссерский курс, у Бородина – актерский курс, ходили друг к другу на экзамены: наши экзамены чудовищные и скучные, потому что у нас русская классическая драматическая школа, а у них… у них – полная свобода.
Я помню, как мы приходили после просмотра экзаменов у “фоменок” к себе в общежитие и рыдали с соседкой в голос. У нас в общежитской комнате были высоченные потолки, метра три с половиной, а у моей соседки Иры к потолку над кроватью был прибит плакат с рекламой “Вольво” – как символ безбедной счастливой жизни звезды, вероятно. И вот мы лежим, смотрим на этот плакат и рыдаем: у нас никогда не будет такого эмоционального, потрясающего экзамена, как у “фоменок”, а значит – и ничего никогда не будет, никакой жизни.
