Западная Европа против Византии. Константинополь под натиском крестоносцев
Text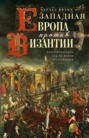


Go to audiobook
- Size: 450 pp. 4 illustrations
- Genre: popular history
Так закончилась «священная война» (названная так священнослужителями вроде Евстафия Солунского), которая велась в самих стенах огромного храма. Латиняне участвовали в ней с обеих сторон: итальянцы кесаря хорошо сыграли свою роль, а сторонников императора поддержала дворцовая охрана, состоявшая из франков и варягов. Большая колония латинян в Константинополе поддержала протосеваста. Как burgesses (феодальные подданные империи), латиняне должны были оказывать правительству помощь и давать советы, и по этому поводу два независимых латинских хрониста приписывают победу режима помощи западноеврпейцев. (Евстафий считал, что латиняне намеревались использовать эту войну в качестве оправдания разграбления города и порабощения византийцев, но сделать это им помешала ее кратковременность.) Константинопольская чернь, подогреваемая ненавистью к западноевропейцам, поддержала Порфирородную. События вели к кульминации в отношениях двух народов, которые жили бок о бок в этом древнем городе.
Заговорщиков, которые засели в Святой Софии, защищали клятвы, гарантировавшие их безопасность, но ни слова не было сказано в отношении патриарха, которого протосеваст обвинил в поощрении сторонников кесарей. Поэтому Алексей перед высшими церковнослужителями обвинил Феодосия Ворадиота в подстрекательстве к мятежу и использовании храма в качестве крепости. Он быстро добился бы низложения Феодосия, если бы кесарисса не поддержала своего недавнего благодетеля. Протосеваст все же добился отправки патриарха в монастырь на остров Теревинф, расположенный в Мраморном море, а приверженец правящей власти стал управлять храмом в ее интересах. Позднее протосеваст перевел патриарха назад в Константинополь – в монастырь Христа Пантепопта. В конечном итоге, вероятно, осенью 1181 г. под давлением императрицы-матери и других членов семьи Комнинов он разрешил Феодосию вернуться на патриарший трон. Путешествие Феодосия из монастыря Пантепопта в патриарший дворец заняло целый день, настолько шумным был прием, оказанный народом человеку, мужество и святость которого завоевали ему любовь народных масс.
Попытка Марии Порфирородной свергнуть существующий режим изнутри провалилась. Бунта народных масс было недостаточно перед лицом обученных и дисциплинированных наемников, и лишь нападение на город извне могло внушать надежду на успех. Народ это отчетливо понимал: в разгар штурма толпой дворца 10 апреля 1181 г. распространился слух, что армия Андроника Комнина достигла азиатского берега Босфора, и огромная радость и новое воодушевление вновь охватили противников протосеваста.
На самом деле приход этого существующего по слухам войска состоялся почти через год после рассматриваемых событий. Его полководец Андроник Комнин (сын брата Иоанна II Исаака севастократора) был народным любимцем благодаря своим дерзким поступкам и несогласию с политикой Мануила I. Высокий и статный, с раздвоенной бородкой, которую можно увидеть на монетах, отчеканенных с его портретом, на тот момент он был мужчиной слегка за шестьдесят, но сохранил все свои умственные и физические способности и обладал отличным здоровьем. О его характере существуют самые различные мнения, но все они сходятся в том, что им двигало желание добиться власти. Он выбрал путь лжереформатора, не чуравшегося актов насилия. В годы его правления, как утверждают, в столице чередовались периоды жестокости с разнузданными оргиями в его загородном убежище. Его более ранние любовные похождения, известные во многих местах, не насытили его в преклонном возрасте; он даже прибегал к наркотикам, чтобы взбодрить свои угасающие сексуальные возможности. Свои последние дни на свободе он провел в компании своей жены и любимой наложницы, которые просили за него, когда он попал в руки своих преследователей. Одаренный острым умом, он особенно выделял послания Павла, фразами из которых он пересыпал свои письма. Ему нравилось общество образованных людей, как светских, так и церковнослужителей, но, что отличало его от византийцев, совсем не любил богословские споры: однажды он пригрозил бросить императорского секретаря Иоанна Киннама и архиепископа Новых Патр Евфимия Малаки в реку Риндакос, если они не прекратят спорить о том, что означала фраза Христа: «Мой отец более велик, чем я». И все же подобно своим современникам Андроник был чрезвычайно суеверен и горел желанием узнать будущее.
С поста правителя Понта Андроник наблюдал за тем, как разворачиваются события в Константинополе. В число заговорщиков в 1181 г. входили его сыновья Мануил и Иоанн, которые теперь были заложниками в Константинополе, взятыми для гарантии его хорошего поведения. Другие лидеры движения обменивались с ним письмами, а его дочь Мария была среди людей, укрывшихся в Святой Софии. Спустя месяц после заключения перемирия все те, которые получили амнистию, должны были предстать перед властями в знак демонстрации своего правильного поведения. Но оказалось, что Мария бежала к своему отцу в Синоп, где и сообщила о том, что случилось в столице. Она рассказала, как население искало спасения сначала у Бога, а затем надеялось на Андроника, которого люди ставили лишь чуть ниже Бога. Пришли еще письма, подтверждавшие все то, что рассказала Мария, и просившие его поторопиться, чтобы спасти город. Помощь изнутри казалась гарантированной, а деньги и людскую силу можно было заимствовать в Понте. Оправдание было найдено быстро: перед смертью Мануила Андроник дал клятву поддерживать его и его сына Алексея и защищать их от всех угроз. Он начал с того, что написал письма юному Алексею II, патриарху Феодосию и противникам протосеваста, в которых он выражал недовольство передачей власти фавориту Марии-Зены и, используя свои риторические таланты и фразы из посланий апостола Павла, представил себя с самой благоприятной стороны. Он даже утверждал, что Мануил дал ему особое поручение оберегать Алексея II, что было искаженной интерпретацией его клятвы.
По-видимому, Андроник провел большую часть 1181 г., собирая войско и формируя флот из небольших торговых судов; значительную часть его солдат составляли, вероятно, пафлагонские наемники. К осени Андроник был готов выступать, но он продвигался вперед очень медленно, чтобы создать ложное впечатление, будто он ведет большую и неповоротливую для маневров армию. По мере своего продвижения он занимался пропагандой: заявлял, что будет лучшим опекуном для Алексея II, чем Алексей протосеваст, который целыми днями спал, а по ночам кутил; он также подкупил некоторых влиятельных людей. Так Андроник шел вперед, не вступая в сражения, только Никея под управлением Иоанна (Ангела) Дука и далекая Фракисийская фема оказали ему сопротивление. В последнюю входила долина Меандра и прилегающие к ней регионы; ее столицей была Филадельфия, а правителем – Иоанн Комнин Ватац великий доместик.
В конце концов, протосеваст послал армию под командованием Андроника Ангела дать отпор наступающему мятежнику, но его войско потерпело поражение, а полководец был вынужден бежать в Константинополь. Там его допросили насчет присвоенных денег, выделенных для войска, и обвинили в проандрониковских настроениях. Ангелу и его сыновьям, включая будущих императоров Исаака II и Алексея III, пришлось забаррикадироваться в своем особняке, из которого они безуспешно пытались взбунтовать народ. Вскоре их вынудили бежать к самому Андронику, который принял их как земных ангелов (игра слов, связанная с их фамилией). Переход Ангелов на сторону противника весной 1182 г. настолько воодушевил Андроника, что он прошел мимо Никеи и Никомидии к берегам Босфора. Он разбил лагерь на высотах над Халкидоном, а его флот встал на якоря вдоль побережья.
Андроник попытался распределить свое войско таким образом, чтобы произвести максимальное впечатление на обитателей Константинополя: его лагерь вдоль высот был таким протяженным, а бивачные костры столь многочисленными, что произвели значительный эффект. Если верить Евстафию, который писал в явно антиандрониковском духе, те люди, которые проводили инспекцию армии, сочли условия неблагоприятными. Боевые корабли на самом деле были шлюпками, палатки были расставлены на большом расстоянии друг от друга, войско представляло собой пестрое многонациональное сборище, а кони в кавалерии едва годились для верчения мельничных колес. Посетители приходили в лагерь в большом количестве – сначала тайком, а затем и открыто. Несмотря на свое разочарование, они решили довериться личным качествам Андроника и предложили ему переправиться через пролив.
Тем временем Алексей протосеваст не сидел сложа руки. Его войска, не считая дворцовой охраны, были рассеяны после разгрома Андроника Ангела, но у него по-прежнему оставался флот. Часть его он полностью укомплектовал верными ему латинянами, а другую часть – византийцами. Он хотел передать командование флотом латинянину, но великий адмирал (мегадука) Андроник Контостефан настоял на своем праве занимать главную властную должность, соответствующую его положению. Этот флот перегородил Босфор, не давая возможности нападающей армии переправиться на другой берег. В такой тупиковой ситуации протосеваст предложил Андронику провести переговоры. Георгий Ксифилин (один из священников Святой Софии и будущий патриарх) отправился в качестве посланника в Халкидон, где предложил Андронику прощение, большое вознаграждение и высокую должность, если он прекратит свой мятеж. Однако было сказано, что Ксифилин предал свое посольство, не сообщив Андронику все предложения. Мятежник гордо отверг предложенное и в ответ выдвинул свои условия: протосеваст должен уйти со своего поста и дать полный отчет о своем правлении, императрица-мать должна быть отправлена в монастырь и пострижена в монахини, а юный император должен получить свободу править согласно воле своего отца. Безвыходное положение продлилось еще два дня, пока Андроник Контостефан со всеми кораблями с командами, состоявшими из византийцев, не переметнулся к бунтовщику в Халкидоне.
Это событие было последним ударом по надеждам Алексея протосеваста на успешную оборону города. Представители константинопольских простолюдинов теперь свободно перемещались через проливы. И хотя на них сильное впечатление произвели красноречие и личность Андроника, они все еще хотели поторговаться с ним. Протосеваст, видимо, пассивно ожидал решения своей судьбы; вероятно, он надеялся, что его защитит латинская колония. Он не сумел результативно использовать удерживаемых заложников, включая сыновей Андроника – Мануила и Иоанна. Возможно, он боялся, что давление на заложников заставит церковь, защищавшую недавних заговорщиков, заключить союз с простолюдинами, и надеялся на помощь церкви в достижении компромисса. Вместо этого в один прекрасный день в апреле 1182 г. пленники были освобождены, а сам протосеваст схвачен франками из собственной охраны, которых, очевидно, подкупили сторонники Андроника. Ночью арестованного перевезли из дворца в Дом Михаилица – часть Патриаршего дворца, где его охрана не давала ему даже спать до тех пор, пока не вмешался патриарх. Через несколько дней его под градом оскорблений толпы отвезли к морю и в Халкидон, где он был ослеплен с согласия Андроника и видных аристократов. Очевидно, он закончил свои дни в монастыре.
Теперь Андроник должен был выполнить свою часть соглашения с лидерами толпы, в поддержке которых он нуждался. Вековая ненависть населения к западноевропейским торговцам, мешавшим им торговать, должна была получить выход. Пока сам Андроник выжидал в Халкидоне, он послал отряд своих пафлагонских варваров в город, чтобы удостовериться в том, что толпа может безнаказанно напасть на латинские кварталы. В апреле 1182 г. последовала резня латинян, которая стала вехой в растущей враждебности Востока и Запада. Этот удар не был направлен на латинских наемников из дворцовой охраны, которые не только могли защитить себя, но и перешли на сторону Андроника. Население накинулось на купцов, их семьи, а также католических монахов и священнослужителей, которые жили в многолюдных кварталах вдоль Золотого Рога. Главными жертвами стали пизанцы и генуэзцы, так как на тот момент в городе было мало венецианцев (разрыв Мануила с Венецией практически не был преодолен). В напряженной атмосфере дней, последовавших за арестом и заключением протосеваста в тюрьму, некоторые итальянцы получили предупреждение от своих друзей-византийцев о грозящем им нападении и вместе со своими домочадцами погрузились на корабли, стоявшие в гавани; но большинство из них остались в своих домах.
При нападении толпы не было сделано никаких попыток защититься. Группы простолюдинов рыскали по улицам в поисках латинян. Первыми жертвами стали те, кто был беспомощен: женщины и дети, старики и больные, священники и монахи. Их убивали на улицах и в домах, вытаскивали из их убежищ и лишали жизни. Жилища и церкви, заполненные беженцами, сжигали, а в больнице госпитальеров Святого Иоанна больных убивали прямо в кроватях. Церковнослужители были особыми объектами ненависти толпы. Папскому посланнику кардиналу Иоанну отрубили голову, привязали ее к собачьему хвосту и таким образом протащили по городу. Неродившихся младенцев вырезали из утроб матерей. Толпа даже выкапывала мертвецов и глумилась над трупами. Православные священнослужители возглавили поиски спрятавшихся латинян, чтобы отдать их в руки убийц. Некоторых западноевропейцев – якобы четыре тысячи – пощадили, но лишь для того, чтобы продать в рабство туркам. Вот к такому концу привели латинян в Константинополе их гордость и власть.
Но не все латиняне пали жертвами этой кровавой бойни. К тем, кто сел на корабли до ее начала, присоединились многие, которые спаслись бегством, когда толпа начала наступать. Несколько кораблей были сожжены у береговой линии, когда беглецы пытались попасть на них. Многие уцелевшие суда были византийскими боевыми кораблями, которые протосеваст передал латинянам для борьбы с Андроником. Теперь более сорока четырех галер и множество более мелких кораблей направились к Принцевым островам (в Мраморном море неподалеку от города), где выжившие собрались на совет. Полные гнева, они решили отомстить, выбрав самые легкие и доступные для этого цели: монастыри, которыми были усеяны острова и побережье Мраморного и Эгейского морей. Они были не только очень богатыми, но и беззащитными. Более того, в них обитали монахи, смерть которых стала бы отмщением за преступления столичного православного духовенства и смерть латинских монахов и священников. Немедленно начались грабежи и поджоги этих монастырей. Пока осуществлялось это возмездие, к флоту присоединялись все латинские корабли, которые встречались на его пути, чтобы нарастить его численность. Были разграблены многие прибрежные города, и даже Фессалоники подверглись короткому визиту, но не понесли существенного ущерба. За этим последовал уход генуэзских и пизанских купцов из провинциальных городов империи; кто-то из них уехал в Сирию, а другие вернулись в Италию.
И хотя Генуя и Пиза сильно пострадали как по числу убитых горожан, так и по количеству утраченного имущества и товаров, они не стали совершать прямых нападений на империю. Возможно, несчастья, которые постигли венецианскую экспедицию, попытавшуюся нанести ответный удар за нападения Мануила в 1171 г., помешали этим двум городам последовать этим путем. Возможно, Византия, возрожденная Андроником, казалась слишком сильной для них; и союз нового императора с Венецией, который вскоре был заключен, возможно, удержал от любых кровавых действий. Вместо этого власти Генуи и Пизы разрешили своим гражданам получать частную компенсацию с корабельных перевозок и территории Восточной империи. Так появилась напасть – пираты, которые за несколько лет опустошили Эгейские острова и превратили устья рек Ликии в прибежища мародеров. Ущерб, нанесенный генуэзскими и пизанскими корсарами, был таким огромным, что, когда посланцы этих городов впоследствии потребовали большие суммы в качестве компенсации за массовую резню, представитель императора отпарировал, что претензии Византии, связанные с убытками, причиненными пиратами, уравновешивают и отменяют требования итальянцев.
Отчасти из-за нарушения связи между Константинополем и Западной Европой как последствия массовой бойни латинян эхо событий, произошедших в этом городе, было явно приглушено на Западе. Среди итальянских летописцев только пизанец упоминает о них; и лишь немногие авторы по ту сторону Альп затрагивают эту тему. Однако власти двух пострадавших городов об этом не забыли и составили отчеты о своих убытках, чтобы представить их будущему правителю Византии. Все итальянские купцы, вероятно, понимали глубину той ненависти, которую питали к ним византийцы, и степень опасности их положения в Константинополе, так как когда латиняне наконец вернули себе свои позиции в нем, они старались укрепить их, организовав оборону своих кварталов и получив дополнительные гарантии безопасности от властей. Массовая бойня сделала итальянцев острожными и продемонстрировала, что экономического главенства недостаточно без политической власти. В конечном счете, когда становилось очевидно, что византийские императоры ненадежны, их заменяли на правителей-латинян. Так появилась одна из причин Четвертого крестового похода.
Так как теперь не оставалось никакой альтернативы принятию Андроника в качестве законного регента империи, патриарх Феодосий прибыл в Халкидон, чтобы выразить ему свое повиновение. Андроник приветствовал его с уважением как единственного истинного и благочестивого сторонника юного Алексея II. Однако еще умирающий Мануил предупреждал патриарха о характере и намерениях Андроника, и он сразу же получил этому подтверждение. Патриарх сказал: «Я раньше лишь слышал о тебе, а теперь я вижу и отчетливо узнаю (тебя)». Андроник уловил двойной смысл и ответил: «Узри сильного армянина». Когда Андроник похвалил патриарха за его заботу об императоре, Феодосий ответил, что он действительно ранее заботился о мальчике, но с того момента, когда Андроник взял власть, он стал считать Алексея II погибшим. Андроник потребовал объяснить, что это значит, но патриарх побоялся открыто обвинить его в планировании убийства и просто переложил свою ответственность за воспитание мальчика на мятежника.
Пока Андроник находился в Халкидоне, делами в городе заправляли его друзья и доверенные лица. Когда все было подготовлено, он пересек пролив. Император и императрица-мать были отосланы во дворец в Мангане, где Андроник попытался наладить с ними контакт и выразил свое почтение императору, однако к Марии-Зене отнесся с пренебрежением. Затем Андроник разбил свой лагерь в пригороде Филопатионе, прежде чем войти в сам город, где к нему присоединились все представители знати. Однажды ночью возле его палатки был схвачен нищий, которого горожане заподозрили в колдовстве с целью навредить Андронику и стихийно сожгли его, чтобы угодить новому регенту. Наконец, он официально вошел в город и сначала отправился к могиле Мануила в монастыре Иисуса Пантократора. Людям показалось, что там он плакал; но, по слухам, он на самом деле изрыгал оскорбления над могилой своего врага, давая выход своей ненависти ко всей семье Мануила. Андроник проживал по очереди в частных особняках видных аристократов, забрав у них бразды правления и заново знакомясь с богатством и властью их владельцев, ведь он жил вдали от столицы много лет. В конце концов он поселился в House Michaelitzes в Патриаршем дворце, сделав его центром своей деятельности.
На Троицу 16 мая 1182 г. Андроник заново короновал Алексея II в Святой Софии. На церемонии регент встал на колени перед императором и на реликвии – Истинном Кресте поклялся поддерживать и защищать его. Для пущего эффекта он отнес Алексея II из храма во дворец на руках. Император получил разрешение продолжать свои занятия, в том числе охотой, но он был окружен охраной, преданной Андронику; особенно тщательно следили за тем, чтобы к императору не приближались никакие люди, враждебные новой власти.
Сам Андроник контролировал администрацию. Так как он желал расширить партию верных ему людей, он в первую очередь наградил своих сторонников. Пафлагонцы и другие, сослужившие ему хорошую службу, получили почести и подарки, а самые высокие должности перешли к его сыновьям и главным сподвижникам. Большое количество влиятельных людей, включая большинство крупных чиновников, перешли на его сторону. Он подготовил себе путь с помощью пропагандистской кампании, когда шел с войском на столицу: ничего не желал крупный чиновник больше, чем того, чтобы власть (как провозглашал Андроник) снова оказалась в руках центрального правительства, и тогда провинциальные землевладельцы больше не будут поступать по-своему. Евстафий утверждает, что лишь несколько человек сторонились нового регента; даже добрые христиане не увидели ловушки, которые он расставлял.
Подчинение оппозиции новой власти было такой же насущной необходимостью для Андроника, как и рост рядов его приверженцев. Иоанн Комнин Ватац, великий доместик и правитель Филадельфии, уже был готов выступить против Андроника. Он активно побуждал своих сторонников в азиатских городах бороться с фракциями, которые поддерживали там Андроника. Началась гражданская война, победа в которой явно склонялась на сторону Андроника. Вскоре после укрепления своих позиций в Константинополе (вероятно, летом 1182 г.) Андроник послал войско в Филадельфию под командованием Андроника Лапарда. Этот полководец, недавно вернувшийся из ссылки, был участником заговора Марии Порфирородной. Его войско было достаточно велико, чтобы осадить город. Ватац был слишком стар и болен, чтобы энергично командовать своей армией, а его двое сыновей не смогли ничего поделать с Лапардом, поэтому Ватац приказал доставить себя на вершину холма, с которого он руководил сражением, и разгромил войска противника. Однако спустя несколько дней он умер, и жители Филадельфии, которые чувствовали свою изоляцию и, наверное, находились под влиянием проандрониковских элементов, отправили регенту прошение о прощении. Двое сыновей Ватаца были вынуждены бежать сначала к султану Коньи, а затем на Сицилию. Однако на пути к этому острову их корабль прибыл на Крит; там их узнал какой-то солдат-франк, и их бросили в тюрьму, а впоследствии ослепили по приказу Андроника. На тот момент Малая Азия была разгромлена.
Внутренняя оппозиция, а особенно устранение ее возможных будущих лидеров, также занимали мысли Андроника. Принцесса Мария Порфирородная проявила себя как человек, способный организовать заговор против бывшего правителя. У нее были последователи среди жителей Константинополя, которые соперничали со сторонниками Андроника. Вдобавок она была близкой родственницей императора, и у нее было больше прав на корону, чем у регента. Поэтому ее и ее мужа Ренье-Иоанна Монферратского всегда держали во дворце, хоть и обращались с ними уважительно и гуманно. Однако впоследствии они умерли: кесарь вскоре после своей супруги. По слухам, которым не полностью доверяет даже Никита Хониат, евнух Птеригионит давал им медленно действующий, подрывающий силы яд; с этой целью его и подкупил Андроник.
Другую опасность представляла императрица-мать Мария-Зена Антиохийская, которая могла однажды задумать освободить Алексея II от контроля со стороны Андроника. В присутствии знати он обвинил ее в заговоре против государства, настроил против нее население и получил согласие патриарха Феодосия на ее изгнание из дворца. Прежде чем осуществить это решение, Андроник поинтересовался мнением судей велума, которые входили в главный судебный орган империи. Трое судей (Деметрий Торник, Лев Монастериот и Константин Патренос), которые в то время находились в оппозиции к Андронику, спросили его, по распоряжению ли императора Марию-Зену удаляют из дворца, тем самым ставя под сомнение действия регента. Андроник пришел в ярость и вскричал: «Это люди, которые подстрекали протосеваста к жестоким поступкам! Схватить их!» Но прежде чем охрана сумела выполнить приказ, стоящая рядом толпа окружила трех судей и избила их до полусмерти. Марию-Зену немедленно выслали в монастырь Святого Диомеда.
До сих пор Андроника поддерживала большая часть придворной знати, ненавидевшей протосеваста; фактически его успех зависел от того, что на его сторону переметнулись Андроник Ангел и мегадука Андроник Контостефан. Очевидно, удаление из дворца императрицы-матери встревожило этих людей, так как в этот момент сформировался заговор. Его возглавили двое вышеупомянутых людей, их сыновья и логофет дрома (министр иностранных дел) Василий Каматир Дука; но к заговору примкнули и многие другие. Андроник быстро раскрыл заговорщиков и послал солдат схватить виновных магнатов. Среди схваченных оказались Контостефан, четверо его сыновей и Каматир; они были ослеплены. Многих посадили в тюрьму, и некоторые из них были позднее ослеплены, но Андронику Ангелу и шестерым его сыновьям удалось скрыться на корабле, нагруженном пустыми кувшинами, на котором они бежали в Сирию, где отец умер; его сыновья стали непримиримыми врагами Андроника Комнина.
История Марии-Зены на этом не закончилась. Раскрытие заговора заставило многих из тех, которые, возможно, были вовлечены в него на периферии, внезапно стать пылкими сторонниками нового режима. Чтобы показать свое рвение, они требовали крови императрицы-матери. Ее обвинили в том, что она написала своему деверю – королю Венгрии Беле III и предложила ему вторгнуться в Балканские провинции. Андроник издал указ о казнях предателей империи, который подписал Алексей II. Согласно его положениям, регент принял решение лишить Марию-Зену жизни. Для исполнения приговора Андроник выбрал своего сына Мануила и брата своей жены – севаста Георгия, но они отказались, сказав, что не одобряют казнь. Это был лишь первый из нескольких случаев, когда Мануил открыто воспротивился жесткому курсу, взятому его отцом. Разгневанный такой осторожной позицией членов собственной семьи, Андроник передал это поручение своим ставленникам Константину Трипсиху этериарху (начальник личной охраны императора) и евнуху Птеригиониту. Они утопили Марию-Зену, чьи красота и несчастья тронули даже здравомыслящего Никиту Хониата настолько, что он выразил свое сожаление по этому поводу.
После заговора Контостефана – Ангела Андроник приступил к террору в отношении знати: одни были отправлены в ссылку, другие – заключены в тюрьму или ослеплены. Всему этому у Андроника были следующие предлоги: принадлежность к знатному сословию, военный опыт или пренебрежительное отношение к нему с их стороны в прошлом. Их знатность связывала их с императорской семьей, давая им косвенные основания претендовать на трон. Мужчины, имевшие опыт военных действий, могли быть опасными противниками на поле боя, как это продемонстрировал Иоанн Комнин Ватац. Андроник на протяжении многих лет был не в ладах с придворными Мануила, а возраст не смягчил его нрав и не ухудшил память. Теперь погоня за его благосклонностью стала такой неистовой, что возможно стало предательство между друзьями и членами семьи. Доносы и ответные доносы стали обычным делом, и даже шутки и случайные фразы доносили безжалостному регенту. Доносители присоединялись к жертвам своих доносов в тюрьме, слуги предавали хозяев. Однажды Иоанн Кантакузин набросился с кулаками на евнуха по имени Цита, который возложил вину за происходящие в обществе бедствия на некомпетентность Алексея II, и за такое нападение вельможа был ослеплен и брошен в тюрьму.
Бедствий, упомянутых евнухом, было много, особенно на границах империи. Марию-Зену обвиняли в поддержании связи с королем Венгрии Белой III, и именно оттуда империи стала грозить самая непосредственная угроза. После смерти Мануила Бела возвратил себе Северную Далмацию и Зару; теперь, увидев для себя шанс, он оккупировал пограничные города Белград и Браничево в долине Дуная и стал продвигаться по Моравии. Ниш, до недавнего времени процветающий город, был захвачен, и завоеватель двинулся по долине реки Нишавы к Софии, откуда он увез реликвии святого Иоанна Рыльского в венгерский Гран. Летом 1183 г. Беле безуспешно противостояла византийская армия под командованием Алексея Враны и Андроника Лапарда. Венграм активно помогали Стефан Неманя и сербы, которые добились независимости Рашки и Зеты сразу после смерти Мануила. Теперь они стремились расширить свои владения, и Неманя вскоре получил остатки византийской Далмации. Бела, очевидно, ушел из Софии, но сохранил за собой Белград и долину Моравы. Это было начало краха власти Византии на Балканах. Когда в 1189 г. там проходили крестоносцы Барбароссы, большинство городов были в запустении.
Султан Коньи Кылыч-Арслан II не замедлил воспользоваться ситуацией. В то время когда Андроник захватил власть в Константинополе, а Ватац поднял восстание, он усилил натиск на границы империи. Созополис в Писидии был взят, Кютахья – разрушен, и даже Атталия на средиземноморском побережье подверглась нападению. Лишь после разгрома Ватаца султан вроде бы прекратил агрессивные действия; при этом его двор по-прежнему предоставлял убежище тем, кто спасался от Андроника.
Прежде чем надеть императорскую корону – каково и было его намерение, – Андроник счел необходимым привязать к себе тех членов семьи Комнинов, которых он не отправил в ссылку и не казнил. Ему также очень хотелось избавиться от патриарха Феодосия, который пользовался огромной популярностью в народе. Чтобы достичь этих целей разом, он предложил своей незаконнорожденной дочери Ирине от любовницы Феодоры Комнины – дочери брата Мануила Исаака севастократора – заключить брак. Ирина должна была выйти замуж за незаконнорожденного сына Мануила Алексея протостратора, матерью которого была другая Феодора Комнина – дочь одного из братьев Мануила. Однако Ирина и Алексей состояли в запрещенной степени родства. Андроник отправил в синод краткое письмо, которое было зачитано и народу, в котором доказывал (если верить Никите Хониату), что этот брак будет способствовать соединению восточной и западной частей империи и освобождению узников, равно как и продвижению многого другого, полезного народу. Мнения в синоде разделились, но его большинство, подкупленное деньгами и почестями, одобрило этот союз, и церемония бракосочетания состоялась под руководством архиепископа Болгарского. Одержавшие верх члены синода утверждали, что раз оба ребенка незаконнорожденные, то они в глазах закона не имеют отношения к своим отцам, а значит, нет никаких препятствий для заключения брака. Патриарх Феодосий не смог «проглотить» такой довод и отказался одобрить этот брак, несмотря на угрозы; но он добровольно удалился в монастырь на острове Теревинф, где и прожил оставшуюся жизнь. Андроник с радостью воспринял эту молчаливую отставку и избрал нового патриарха Василия Каматира (не путать с его тезкой – ослепленным логофетом дрома), который возглавлял проан-дрониковское духовенство.
