Вместе с русской армией. Дневник военного атташе. 1914–1917
Text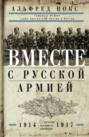


Go to audiobook
- Size: 930 pp. 34 illustrations
- Genre: Biographies and memoirs, Military, intelligence, Foreign journalism
Тот же офицер рассказал мне, что это генерал Постовский настоял на том, чтобы меня отправили обратно, когда 28 августа я прибыл в штаб. Свою позицию он объяснял так: «Положение очень серьезное, поэтому будет неправильно, если иностранец увидит то, что с нами сейчас происходит». По словам очевидца, именно Постовскому принадлежала идея утром 28 августа отправиться на север, чтобы лично руководить ходом боев. Младшие офицеры штаба настаивали на отводе штаба армии из района Нейденбурга в Янов, но к их рекомендациям предпочли не прислушаться.
Тот же офицер заметил, что личный состав XIII корпуса 27 августа пьянствовал в Алленштейне, и из-за этого смог выступить только в десять часов утра, а не двумя часами ранее, как указывалось в приказе, чтобы нанести удар на юго-запад. Когда войска частично вступили в бой, один из полков принялся бежать на глазах командующего армией, который вовремя принял решение о замене командира на более молодого подполковника инженерных войск. Тот вернул полк обратно, но солдаты снова побежали, и вновь назначенный командир после безуспешных попыток остановить своих подчиненных предпочел достать револьвер и застрелиться.
Вечером 28 августа Самсонов созвал военный совет. После консультации с Мартосом командующий армией принял решение той же ночью с боями прорываться к своим через Нейденбург. По его замыслу, 2-й дивизии надлежало немного отойти от Франкенау. При этом XV и XIII корпуса, которые выдвигались к ее тылу, наносили удар на левом фланге. В тот момент все представители русского командования недооценивали стремительность маневрирования и инициативность противника.
Самсонов на самом деле погиб. Долгое время ходили слухи о том, что ему удалось вырваться, но М. Гучков, будучи полномочным представителем Российского Красного Креста, лично посетил позиции противника и убедился в смерти командующего армией.
Впоследствии многие русские офицеры обвиняли штаб Самсонова за то, что он бросил своего командира. Они заявляли, что страдающий от астмы Самсонов не мог двигаться самостоятельно и нуждался в помощи. По словам многих, офицеры штаба на первых порах помогали генералу, но затем предпочли бросить его.
В ноябре 1914 г. автору пришлось встретиться в Варшаве с неким Б., офицером штаба армии Ренненкампфа, который был пылким поклонником своего командующего, хотя и признавал, что тот имел обыкновение заходить слишком далеко на местности, не беря за труд сверяться с картами, что, несомненно, был обязан делать любой командир крупного воинского формирования.
В начале августа Ренненкампф получил приказ перейти границу с Восточной Пруссией 17-го числа и энергично наступать на Инстербург. В приказе отмечалось, что 2-я армия должна была перейти границу 19 августа на рубеже Хоржеле – Млава. Ренненкампф показал телеграмму Б. и заметил: «Из этого ничего не выйдет. Во-первых, до 19 августа 2-я армия не успеет подготовиться перейти границу, а во-вторых, немцы бросят все свои силы сначала против меня, а потом – против Самсонова». Эти слова оказались пророческими. И несмотря на то, что войска Ренненкампфа все-таки перешли границу 17-го числа, армия Самсонова смогла проделать это только 21-го, да и то, как мы теперь знаем, не успев к тому времени завершить мобилизацию.
Битва при Гумбинене произошла 20 августа. В ее ходе русская 1-я армия была очень близка к разгрому, так как три полка 28-й дивизии на правом фланге в беспорядке побежали. Но генерал Ренненкампф, не прислушиваясь к советам офицеров штаба, которые просили его отдать приказ о полном отступлении, чтобы спасти армию, напротив, сумел удержать позиции, а затем ударами на левом фланге и в центре заставить немцев отойти. При этом в стане русской армии царила характерная обстановка хаоса и полупаники. Б. тогда попросил у Ренненкампфа разрешения поспать. Генерал разрешил, но посоветовал спать не раздеваясь. Б. лег и уснул, а затем Ренненкампф разбудил его. Генерал стоял около кровати. Улыбаясь, он сообщил: «Теперь можете раздеться, немцы отступают».
Если бы генерал и офицеры его штаба правильно понимали свою задачу, они сознавали бы, что время, когда немцы начали отступление, было сигналом для них изо всех сил пытаться сохранить соприкосновение с противником, а совсем не для того, чтобы раздеться и отправиться ко сну!
По оценкам штаба 1-й армии, потери немецких войск под Гумбиненом составили приблизительно 40 тыс. человек, но контакт с противником был полностью утерян 21 августа. Русская кавалерия на правом фланге понесла тяжелые потери в боях 20-го числа, после чего проделала 25 верст на север, где остановилась на отдых!
В то время, как две русские армии вели наступление изолированно друг от друга, II армейский корпус русских бесцельно бродил между их флангами, не делая попыток прийти на помощь одному из своих соседей. Осенью 1916 г. мне довелось познакомиться с офицером, который в те дни служил в штабе корпуса. Несмотря на слова генерала Жилинского о том, что он забирает корпус из армии Самсонова, офицер был уверен, что с самого начала корпус действовал в составе 1-й армии Ренненкампфа. Тем не менее он признавал, что связь работала отвратительно и поэтому в штаб корпуса доходили не все приказы.
II корпус проходил комплектование в Гродно, после чего был направлен с задачей занять оборонительные позиции в районе болот у Августова. Примерно такие же позиции занял на его левом фланге VI армейский корпус.
Корпус наступал на северо-запад, и 19 августа его штаб прибыл в Лик. Затем были оккупированы Иоганнесбург и Арис. Крепость Летцен также получила ультиматум о сдаче, который, впрочем, был отклонен. 24 августа штаб прибыл в Ангербург.
26 августа, когда штаб корпуса находился между Нейденбургом и Ангербургом, на автомобиле прибыл офицер-курьер, который привез приказ корпусу вновь вернуться в район города Лик и быть в готовности войти в состав 9-й армии. Корпус развернулся и начал движение в южном направлении. 27 августа пришел приказ двигаться совместно с IV армейским корпусом (1-й армии) в юго-западном направлении через Растенбург на помощь армии Самсонова. Корпус снова развернулся. 29 августа его штаб прибыл в Коршен и в тот же вечер получил приказ отступать в связи с катастрофой, постигшей 2-ю армию.
Войска отступали, не опасаясь нападения противника. Немцы атаковали 8 сентября. После тяжелых боев 76-я дивизия отступила, и корпусу приказали отходить к Даркемену. Но это распоряжение пришло слишком поздно, маневр осуществлялся в чрезвычайно сложных условиях из-за того, что немцы действовали дерзко и стремительно, а также потому, что корпусу не назначили маршрута отступления, и в движении транспорт IV корпуса смешался с колоннами XX армейского корпуса.
12 сентября поступило указание отходить к Мариамполю, куда штаб корпуса прибыл 14-го числа. К 19 сентября II корпус отошел для отдыха в район восточнее реки Неман.
27 сентября вновь началось наступление совместно с вновь сформированной 10-й армией (командующий – генерал Флюг В.Е., затем – генерал Сиверс Ф.В.), и немцы, которые направили значительные силы для наступления в Юго-Западной Польше, были разгромлены под Августовом.
21 августа армия Самсонова перешла границу с Восточной Пруссией. К утру 30 августа армия была полностью разгромлена, а сам Самсонов застрелился. Десятидневное наступление стоило России практически всего XIII и XV армейских корпусов, 2-й пехотной дивизии и одного полка 3-й гвардейской пехотной дивизии со всей артиллерией и транспортом.
По немецким данным, были убиты, ранены и взяты в плен 170 тыс. русских солдат, захвачена вся русская артиллерия и средства транспорта. При этом потери самих немцев составили около 15 тыс. военнослужащих.
Затем пришла очередь армии Ренненкампфа, чья медлительность в наступлении после сражения при Гумбинене объясняется, главным образом, катастрофой, постигшей армию Самсонова. Войска Ренненкампфа несколько отошли назад и растянулись на рубеже от Велау через Алленбург, Гердауэн и Ангербург. После этого генерал стал выжидать. В то же время Гинденбург успел получить подкрепления с Западного фронта, в том числе XI армейский корпус, гвардейский резервный корпус и 8-ю кавалерийскую дивизию. Общая численность его войск достигла 175 тыс. человек. 9 сентября он атаковал 1-ю русскую армию с обоих флангов, опрокинув левый фланг. Ренненкампфу пришлось срочно уходить из Восточной Пруссии. При этом, по немецким данным, он потерял убитыми, ранеными и пленными около 60 тыс. человек. Немцы захватили 150 артиллерийских орудий.
Русские заявляют, что вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 г. было чем-то вроде рейда альтруизма, предпринятого исключительно для того, чтобы ослабить давление на союзников на Западном фронте. Когда в Генеральном штабе узнали новость о постигшей 2-ю армию катастрофе и французский представитель генерал Ля-Гиш высказал в связи с этим свое сочувствие, великий князь ответил: «Мы здесь привыкли жертвовать собой в интересах своих союзников».
В то же время русское командование вряд ли сознательно приняло бы решение принести в жертву девять армейских корпусов и восемь кавалерийских дивизий, то есть более четверти всей своей армии.
Первоначально две армии имели своей задачей просто совершить рейд на территорию противника, однако русские с их сангвиническим характером недооценили трудности и понадеялись на то, что те локальные успехи, которые поначалу сопутствовали им, и впредь будут неизменными спутниками русской армии. Они забыли о ничтожной пропускной способности железнодорожной ветки Варшава – Млава, о том, что в Северной Польше самым распространенным типом почвы является болото или песок, о том, что сами намеренно не строили здесь дорог, чтобы задержать продвижение возможного противника. Русские забыли о прекрасно отлаженной железнодорожной сети Восточной Пруссии. Они отправили 2-ю армию в наступление, не снабдив ее полевыми пекарнями, воображая (если они вообще думали о солдатских желудках), что многочисленная армия способна сама себя прокормить в этом регионе, что она не нуждается в поставках продовольствия. Возможно, русское командование рассчитывало на то, что, напрягая все силы на Западе, противник не станет оказывать настолько серьезного сопротивления, как это оказалось на самом деле. При этом никто не отдавал себе отчета и в том, что русская военная машина уступает немецкой в качестве командования, в вооружении, в маневренности.
Из немецких источников стало ясно, что рейд достиг своих целей. Беженцы, спасавшиеся от русской угрозы, наводнившие Берлин, заставили немецкое правительство и Верховное командование понервничать. В письме от 21 августа, где генерал-квартирмейстер фон Штейн уведомляет генерала Людендорфа о его назначении на должность начальника штаба немецкой 8-й армии, автор отмечает: «Может быть, вы еще сможете спасти положение на Востоке… Разумеется, вы не будете нести ответственность за то, что уже успело произойти, но, приложив всю свою энергию, сможете предотвратить то, чтобы события еще более не ухудшились». Сначала командование 8-й армии предложило эвакуировать все население с территорий к востоку от Вислы, но после 23 августа, даты прибытия Гинденбурга и Людендорфа, приняло решение обороняться на рубеже реки Пассарге.
С началом сражения, которое немцы называют битвой при Танненбурге, немецкое Верховное командование предложило усилить армию тремя корпусами, перебросив их с Западного фронта. Подкрепления и в самом деле были отправлены – XI армейский корпус, гвардейский резервный корпус и 8-я кавалерийская дивизия были сняты с правого крыла немецких войск на Западном театре. Они прибыли слишком поздно, чтобы принять участие в битве, но только благодаря рейду русских войск они не участвовали и в сражении на Марне.
Немцы законно гордятся своим успехом в этой кампании. Гинденбург и Людендорф сумели полностью использовать преимущество, которое им давало полное отсутствие взаимодействия между двумя армиями. Они отвели практически все свои войска с фронта перед русской 1-й армией, и начиная с 27 августа девяти полнокровным пехотным и пяти кавалерийским дивизиям противостояли лишь две кавалерийские бригады. Они заставили отступить русский I армейский корпус на левом фланге 2-й армии, вынудив его уйти в пассивную оборону, в то время как немецкие войска окружили и разгромили большую часть войск, которые входили в состав еще трех с половиной русских корпусов.
Примерно за три недели территория Восточной Пруссии была полностью очищена от противника. Имея армию численностью примерно 150 тыс. человек, немцы нанесли тяжелое поражение противостоящим русским армиям общей численностью до четверти миллиона солдат и офицеров. Немцы сумели существенно поколебать моральный дух русских войск, лишить их огромного количества очень нужной техники и другого имущества.
Конечно, они очень сильно рисковали, так как не имели права рассчитывать на пассивность и отсутствие инициативы Ренненкампфа с его многочисленной кавалерией. Однако они хорошо знали своих солдат и сумели правильно оценить противника. Они сознавали, что могут рассчитывать, с одной стороны, на отличное взаимодействие между собой своих собственных корпусов и на грамотность командиров, прошедших одну и ту же школу в рамках единой военной доктрины, а с другой – на тщательно взлелеянный патриотизм солдат, которые защищали собственные дома.
Возможно, что войска, которые немецкое Верховное командование было вынуждено снять с Западного фронта из-за русского наступления, стали причиной спасения армий союзников, что в конечном счете определило весь ход войны. Невозможно забыть о той цене, которую пришлось заплатить за помощь западным союзникам, гораздо выше той, что в данном случае была бы необходима, – уничтожение целой армии. И за эту катастрофу в дальнейшем не могли не ответить ни сами союзники, ни в первую очередь Россия.
Генерал Постовский сохранил свой пост начальника штаба и при принявшем командование 2-й армией генерале Шейдемане, занимавшем этот пост вплоть до сражения за Лодзь. После этого он командовал дивизией на Юго-Западном фронте. В конце концов, страдающий нервным расстройством Постовский вернулся в Петроград, где получил назначение в Генеральный штаб. В последний раз я видел его в злосчастные декабрьские дни 1917 г., когда большевики уже совершили свое предательство. Тогда я сказал: «Все шло к этому печальному концу». Он ничего не смог сказать в ответ, просто пожал мне руку и пошел дальше.
Генерал Филимонов какое-то время был начальником штаба в крепости в Брест-Литовске. После этого он командовал дивизией. Больше мне не пришлось с ним встретиться, хотя я и находился очень близко во время наступления на озере Нарочь в марте 1916 г.
Генерала Жилинского на посту командующего Северо-Западным фронтом сменил генерал Рузский, прежде командовавший 3-й армией. В конце 1915 г. он получил назначение на пост представителя России при французской армии. А до этого я видел его неторопливо гуляющим в Летнем саду в Петрограде. Начальник штаба Северо-Западного фронта генерал Орановский сохранил за собой этот пост в течение еще двух месяцев, после чего принял командование I кавалерийским корпусом. На его должность был назначен генерал Гулевич. Орановский был предательски убит мятежными солдатами в Выборге в сентябре 1917 г.
Три командира корпусов – командир VI армейского корпуса генерал Благовещенский, XIII – генерал Кондратович и I – генерал Артамонов – лишились своих должностей. В ходе последовавшего за этим следствием Артамонов, а также начальник 3-й гвардейской пехотной дивизии Сирелиус были оправданы. Генералы Благовещенский и Кондратович, а также командир 4-й пехотной дивизии генерал Комаров были отправлены в отставку. В дальнейшем Артамонов занимал различные должности, но ему никогда не доверяли командование войсками на поле боя. Карьера генерала Сирелиуса продолжалась с переменным успехом, но в дальнейшем его еще как минимум дважды отстраняли от командования. Репутация генерала Клюева из XIII корпуса, который, не оказав сопротивления, сдался противнику, пострадала еще больше.
Сразу же были предприняты меры по воссозданию XV армейского корпуса. В марте 1915 г. он вновь появился в составе 10-й армии в районе Гродно. Командиром был назначен генерал Торклюс, который прежде был начальником 6-й дивизии. Мне пришлось провести с этим человеком один день осенью 1916 г., когда его корпус входил в состав 1-й армии и дислоцировался южнее Двинска. С удивлением я тогда узнал, что примерно 4 тыс. солдатам корпуса в 1914 г. удалось избежать разгрома. Генерал рассказал мне, как 26 августа, на следующий день после того, как я побывал на его позициях, 6-я дивизия начала наступать на Мюлен и вплоть до 23.00 28 августа, когда поступил приказ отступать, вела бои с превосходящими силами противника. Он обвинил Самсонова в том, что тот не отдал этот приказ раньше. В последний раз я встречался с генералом Торклюсом в 1917 г., когда он приезжал в британское посольство в Петрограде, чтобы попытаться устроить перевод своего сына в британскую армию.
Считалось, что XIII армейский корпус проявил себя в боях не так хорошо, как XV. Наверное, поэтому его долго не пытались сформировать заново, вплоть до того времени, когда его бывший командир генерал Алексеев в 1915 г. не возглавил императорский штаб. Я побывал во вновь сформированном корпусе в 1916 г., когда он стоял на Двине западнее Якобштадта.
Глава 3
С кавалерийской дивизией в Юго-Западной Польше. Сентябрь-октябрь 1914 г
В начале сентября на Юго-Западном фронте русские армии вырвали инициативу у австро-венгерских войск.
С началом войны австрийцы имели здесь примерно 36 пехотных дивизий при поддержке 17 немецких дивизий, которые имели задачу сдерживать Россию до того, пока не разрешится обстановка на Западном фронте. Было принято решение нанести удар в северном направлении на позиции русских 4-й (генерал Эверт, сменивший Зальца) и 5-й армий (генерал Плеве), развернутых между Бугом и Вислой. С этой целью была создана Северная группа в составе (справа налево) 4-й армии (Ауффенберг) и 1-й армии (Данкль), а на левом берегу Вислы был сосредоточен ряд формирований немецкого ландвера под командованием генерала Войриша. В составе наступательной группировки насчитывалось около 350 батальонов, 150 эскадронов кавалерии и 150 артиллерийских батарей. Для прикрытия правого фланга на случай удара русских 8-й (Брусилов) и 3-й армий (Рузский) через Восточную Галицию была сформирована правофланговая оборонительная группировка – всего примерно 200 батальонов пехоты, 170 кавалерийских эскадронов и 130 артиллерийских батарей. Войска этой группировки входили в состав двух армий: 2-я, развернутая между Станиславом и Струем, под командованием генерала Кевеса и 3-я под командованием генерала фон Брудермана, задачей которой являлось прикрытие подступов к Лембергу (Львову) с востока.
18 августа русские 4-я и 5-я армии завершили развертывание, а 19 августа выступили в южном направлении с рубежа Новоалександрия – Владимир – Волынск.
Австро-венгерская Северная группа получила приказ на наступление 22 августа, когда она еще не успела полностью сосредоточить свои силы. На первом этапе наступление было успешным для австро-венгерских войск. Битва у Красника закончилась 25 августа отступлением русской 4-й армии. 27 августа войска Ауффенберга заняли Замостье. К вечеру 1 сентября войскам Данкля удалось вторгнуться на территорию России примерно на 100 километров. Теперь Люблин, третий по значению город царства Польского, был для австрийцев на расстоянии дневного марша. Армия Ауффенберга сумела вклиниться на меньшую глубину: в течение нескольких дней 5-я армия генерала Плеве удерживала ее на рубеже Крылов – Дашов – Комаров – Грабовец. Затем, 1 сентября, был занят Комаров, и Плеве получил приказ отвести свои войска.
А в это время начал осуществляться план, разработанный начальником штаба при командующем Иванове генерала Алексеева, и была создана реальная угроза коммуникациям австро-венгерской армии в Галиции. 19 августа на широком фронте перешла границу в районе Проскурова 8-я армия генерала Брусилова. Еще через два дня 3-я армия Рузского на широком участке перерезала железную дорогу Броды – Лемберг. Обе армии стремительно продвигались вперед. С 17 августа до 3 сентября войска Брусилова прошли 220 верст. 3 сентября армия Рузского заняла Лемберг, а 8-я армия – Галич.
Австро-венгерское командование было ошеломлено. Было принято решение отозвать большую часть 4-й армии Ауффенберга, которая с 5 сентября развернулась на юг и заняла рубеж севернее Немирова (на правом фланге) и восточнее Равы-Русской (на левом). С этих позиций австрийцам пришлось отступить еще далее в тыл в южном направлении, чтобы сомкнуть фланги с левым крылом разбитых правофланговых соединений с целью попытаться противостоять не прекращающемуся давлению противника на фронте западнее Лемберга.
В это время после прибытия на рубеж Люблин – Холм гвардии и XVIII корпуса русские получили возможность начать наступательную операцию против армии Данкля. 5 сентября он был вынужден отвести свои войска на правом крыле. Для укрепления этого фланга был переброшен немецкий корпус ландвера Войриша. Данклю удалось удерживать позиции в течение нескольких дней, однако 9-го числа, испытывая значительное давление по обоим флангам, он был вынужден отступить.
Контрнаступление, которое австро-венгерские войска предприняли силами 2, 3 и 4-й армий, закончилось ничем, так как австрийцы встретили решительное противодействие войск Плеве, Рузского и Брусилова. В полдень 11 сентября австро-венгерское командование приняло решение отвести свои войска на переформирование за берег реки Сан.
Кампания русской армии в полосе Юго-Западного фронта началась блестяще, хотя и здесь не удалось достичь решительных результатов. Офицер, возглавлявший в то время оперативный отдел фронта, через несколько месяцев отмечал, что, согласно первоначальному замыслу, русские войска должны были одновременно наступать в южном направлении по обоим берегам Вислы, а также на запад в районе Лемберга с целью отрезать противника от Кракова и Карпат. Как он полагал, 9-ю армию необходимо было нацелить строго на юг из Ивангорода, а не растрачивать ее мощь во фронтальных ударах между Люблином и Холмом.
Пять дней, с 7-го до утра 13 сентября, я провел в Петрограде. В Генеральном штабе мне говорили о том, как там озабочены данными о перебросках немецких войск с Западного театра. 8 сентября поступила информация о переброске из Франции четырех армейских корпусов. Корпуса были разгружены с эшелонов на рубеже Краков— Ченстохов. 10 сентября поступила телеграмма от русского военного атташе в Голландии. Он сообщал, что на тот момент на Западном фронте оставалось, по его расчетам, не более 10–12 регулярных немецких армейских корпусов. В тот же день поступила информация о том, что в районе Шамбора, юго-западнее Лемберга, осуществляется выгрузка еще одного немецкого армейского корпуса. Все эти данные, как оказалось, не соответствовали действительности.
Вторник, 15 сентября 1914 г. Варшава
В 8.30 утра прибыл в Варшаву. Меня отвезли в гостиницу «Бристоль», где я провел весь день, планируя свои дальнейшие передвижения.
В комендатуре, как всегда, повсюду стояли вооруженные часовые, которые досаждали всем без исключения, не обращая внимания на то, может ли данное лицо находиться там или нет. Повсюду царил неописуемый беспорядок: казалось, весь город собрался в очередь, которая совсем не продвигалась. Тем не менее, пока я стоял в очереди, мне удалось привлечь внимание офицера, согласившегося быстро прочитать записку, которую я ему вручил. Затем меня отправили на конюшню в компании симпатичного молодого прапорщика, немного знавшего английский язык, достаточно для того, чтобы проводить меня к моим лошадям. Кобыла страдала от ревматизма. Ветеринар, правда, заявил, что на ней можно будет отправиться в путь уже через неделю, но я очень в этом сомневался.
Здесь можно было найти всего понемногу. Этакий базовый военный склад, где есть и запасные лошади. Взглянув на них поближе, я обнаружил целую коллекцию настоящих кляч, в том числе и тот вороной конь, что, как я помню, был под Самсоновым в Туркестане в прошлом году. Тогда он скакал довольно резво. Здесь же находились и торговцы сеном. Из Люблина прибыл унтер-офицер, которого направили сюда для закупки лошадей для артиллерийской батареи. Он наотрез отказаться брать что-либо из того, что было в конюшне. Тут я с ним полностью согласен. Несколько дезертиров и выздоравливающих после госпиталя ждут отправки в свои части. Похоже, никто не торопится. По слухам, во время рейда в Восточную Пруссию было захвачено в плен с оружием в руках около сотни немецких женщин, это не считая множества военнопленных-мужчин. Из Млавы в субботу привезли целый вагон – 35 человек, которых должны были отправить в Минск на расстрел. Вагон сопровождали всего два русских охранника. Одного из них убили ударом перочинного ножа в живот, второго избили и выбросили из вагона. К счастью, этот человек выжил, ему удалось доползти до станции и поднять тревогу. Одним словом, я не завидую работе коменданта этапа в Варшаве. Наверное, бедняге приходится действовать в тылу на всех направлениях.
Встретился с двумя англичанами, настроенными очень пессимистично. Каждый из них почти уверен, что Варшаве угрожает непосредственная опасность, так как город укрепляют и строят вокруг проволочные заграждения. Я в ответ заметил, что и Санкт-Петербург тоже укрепляют!
Среда, 16 сентября 1914 г. Люблин
Русские, не встречая сопротивления, форсируют реку Сан в нижнем течении. Войска Рузского вышли к Мосейску, что в одном переходе от Перемышля.
Встретился с британским наблюдателем, который участвовал в некоторых операциях в Люблинском губернаторстве. Он привел множество примеров неправильного управления войсками: будто бы один из корпусов стремительно бежал от Красника, и только через несколько километров его удалось остановить, да и то лишь благодаря казакам с их кнутами, которые они то и дело пускали в ход; что офицеры сразу же после остановки на бивуаке пускаются на поиски женщин, бросая солдат и лошадей на произвол судьбы. XVIII корпус отправился вверх по Висле.
В 16.30 я выехал поездом из Варшавы, оставив там своих лошадей. К 23.00 поезд прибыл в Люблин, где я узнал, что штаб 9-й армии еще в 16.00 отбыл в Ивангород и Островец. Было бы проще всего отправиться туда на автомобиле, однако комендант вокзала, после того как он переговорил с городской комендатурой, посоветовал мне возвратиться в Ивангород и завтра обратиться там к этапному коменданту, который пообещал отправить меня «организованным» маршрутом – наверное, к Висле. А пока мне нужно было где-то переночевать. Проведя час в бесполезном ожидании извозчика, мы отправились в город, до которого было примерно две мили, пешком. По дороге нам все-таки удалось нанять извозчика, после чего мы одну за другой объехали семь гостиниц, начав с шикарной, похожей на дворец гостиницы «Ритц» и закончив какой-то еврейской лачугой. Но нигде так и не нашлось для нас угла, большинство номеров и так занимали по трое и даже по шестеро постояльцев. Пришлось возвращаться на станцию, где комендант любезно освободил для меня свою комнатку, где я мог разместиться на ночь. Я чувствовал себя последней скотиной, хоть выставляй на продажу с ярлыком. Ужаснее было только утреннее пробуждение без малейшей надежды помыться.
Проливной дождь.
Четверг, 17 сентября 1914 г. Ивангород
В Люблине мне пришлось прождать до 11 утра, пока мой поезд не отправился обратно в Ивангород. Комендант станции Люблин в чине капитана, двое его помощников, штабс-капитан и прапорщик, были со мной очень любезны. Они были профессионалами своего дела. Пока я сидел у них в кабинете на станции, мне пришлось стать свидетелем, как благожелательно они встречали посетителей, как быстро, без волокиты, решали проблемы. И все же общая обстановка свидетельствовала о полном отсутствии порядка. Все держалось на умении держать себя в руках и безграничном терпении сотрудников.
Мне предоставили целое купе для обратной дороги в Ивангород, но я предпочел разделить его с двумя дамами в черном и лейтенантом гвардейской батареи конной артиллерии из Варшавы. Старшая из дам потеряла сына-преображенца, который погиб в недавнем сражении под Красником. Более молодая, симпатичная женщина, прекрасно говорившая по-английски, приехала в Люблин, чтобы ухаживать за мужем, заболевшим тифом. Женщины рассказали мне о смерти молодого Бибикова из Варшавского уланского полка, который погиб в бою, когда в лесистой местности отдельная гвардейская кавалерийская бригада сражалась против пехоты. Командир бригады Маннергейм поцеловал убитого мальчика и сказал, что хотел бы быть на его месте. Самого Маннергейма обвиняют за то, что он не жалеет жизней подчиненных. Три года назад в Вене бедный Бибиков выиграл все призы на конных состязаниях. Я помню, что видел его в ресторане, где он ужинал с родителями вечером перед возвращением в Варшаву. Младшая дама рассказала мне, что похоронная служба была организована в большой конюшне, часть которой занимали лошади. По ее мнению, это очень понравилось бы Бибикову, который обожал этих животных.
Офицер-артиллерист рассказал об одном из важнейших боевых эпизодов с участием 16-го Нарвского гусарского полка. Гвардейской стрелковой бригаде, три полка которой только занимали свои позиции, срочно нужна была помощь. И в десять часов ночи 16-й полк бросился на вражеские траншеи!
Несколько раз разговаривал с полковником, начальником передового склада, который общество содействия гвардии организовало для обеспечения нужд солдат и офицеров гвардии. Общество подготовило семь вагонов в Люблине и еще три или четыре в Ивангороде. Четыре из них мы захватили с собой, и наш поезд вез их в Островец. Вагоны за полцены предоставило государство. Здесь можно было купить почти любую вещь: обувь, ремни с портупеей «Сэм Браун», шоколад и т. д. Для офицеров всегда в продаже имелся бренди, но никто не пил лишнего. Как говорят сами офицеры, «война – слишком серьезное занятие для этого».
Под Красником русские потеряли много солдат. Здесь австрийцы имели почти долговременные укрепленные позиции. Противник вел огонь из бойниц, а русские были вынуждены наступать, стреляя без подготовки. Огонь русской артиллерии чудесно точен, и поскольку противник не имел возможности вести огонь по русской артиллерии на закрытых позициях, потери русской артиллерии оказались на удивление незначительными. Кавалерия также не понесла на этом фронте больших потерь, всю тяжесть вынесла на себе пехота.
