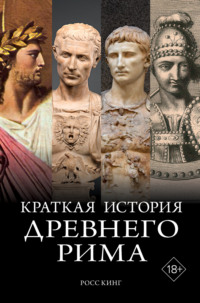Read the book: «Краткая история Древнего Рима», page 3
Несмотря на свое боевое превосходство, многие римляне считали, что их культурный уровень ниже, чем у искушенных греков (те, в свою очередь, в ответ считали римлян «варварами»). Первые настоящие догадки о величии греческой культуры зародились у римлян после того, как в 212 году до н. э. они захватили Сиракузы, самый значительный город Великой Греции, вставший на сторону Ганнибала. (Во время этого захвата римский солдат убил блестящего инженера и математика Архимеда, чьи катапульты и другие орудия наносили римским завоевателям мощный ущерб.) По словам Плутарха, когда в Рим из Сиракуз привезли блистательные трофеи и торжественно пронесли их по улицам, римляне поняли, что у них самих нет «ничего красивого и утонченного» и что их государству не хватает «доставляющих удовольствие и радость» греческих произведений искусства39. Еще более сильное впечатление римляне получили в 167 году до н. э., когда в течение трех дней сотни колесниц с триумфом провозили по Риму добычу из Македонии и Эпира: греческие скульптуры, произведения живописи, золотые и серебряные предметы и даже работы Фидия – величайшего скульптора древности.
Римляне уже были знакомы с проявлениями греческой культуры. В латинский язык пробрались греческие слова, в домах италийцев завелись греческие горшки, в италийских храмах – греческие боги, в римских театрах ставились греческие пьесы, а греческое законодательство попало в римский свод законов – Двенадцать таблиц. По-гречески были написаны даже Сивиллины книги – собрание изречений оракула о судьбе Рима, купленное, как гласит легенда, у одной сивиллы Тарквинием Гордым. Они хранились в храме Юпитера (или Капитолийском храме), во времена бедствий к ним обращались специальные должностные лица.

Лев, нападающий на лошадь. Эта скульптура была создана греческим мастером в Малой Азии около IV века до н. э. и попала в Рим в качестве военного трофея. Для римлян, ценивших силу и воинскую доблесть, она воплощала власть, превосходство и естественный порядок, стала символом мощи Римского государства и его способности завоевывать и подчинять
Фотография любезно предоставлена Капитолийскими музеями
Однако трофеи, добытые во время завоевания Греции, явили новый масштаб великолепия эллинистической цивилизации. Римский правящий класс – разбогатевший за счет заморских побед – с готовностью воспринимал греческое искусство, язык, медицину, литературу и философию. Они нанимали своим детям наставников-греков, ели из коринфской посуды, а для украшения домов привлекали греческих художников. Они ввозили из Греции бронзовые статуи: «воины из Риаче», которых обнаружил в 1972 году у побережья Калабрии ныряльщик, теперь жемчужина Национального музея Великой Греции, несомненно должны были украшать дом какого-нибудь римского аристократа, если бы не кораблекрушение. С греческих статуй тысячами снимали копии. В Афинах, если верить Лукиану, одна статуя Гермеса была постоянно покрыта смолой: с нее каждый день снимали гипсовые слепки40, а потом отливали копии в бронзе или высекали из мрамора для римских заказчиков.
Некоторых римлян тревожило и оскорбляло это восхищение Грецией и ее культурой. Позднее поэт Гораций написал свои знаменитые строки о том, что
Гораций воспринимал это положительно, однако некоторые другие полагали, что общение с растленной и легкомысленной греческой цивилизацией испортило добротный сельский Лаций43. Громогласным сторонником такой позиции был в том числе рыжеволосый сероглазый политический деятель Марк Порций Катон, в юности сражавшийся с Ганнибалом, а затем сделавший долгую выдающуюся карьеру в армии. Его называли Цензором, так как он исполнял эту должность в 184 году до н. э. Цензор отвечал за проведение ценза и надзирал за общественными нравами, ставил черную метку цензуры около имени человека, чье поведение было неподобающим, и находил особенно отвратительным преклонение римлян перед греками, которых называл «совершенно никчемными и распущенными»44. Он ратовал за изгнание греческих философов из Рима, полагая, что «римляне, преисполнившись греческой словесности, погубят свое благополучие»45. Он восхищался не греческой скульптурой и философией, а простыми римскими добродетелями – военной доблестью и честным трудом.
Катон умер в 149 году до н. э., после того как пали и Карфаген (за разрушение которого он беспрестанно высказывался в сенате), и Коринф. Так что он дожил до тех времен, когда Рим в последующие десятилетия захватило филэллинство (любовь ко всему греческому). К тому времени и другие соглашались с тем, что Рим сбился с правильного пути, что старые добродетели подорваны, а республика находится в чрезвычайной опасности.
3
«Люди силы»: упадок Римской республики
К середине II века до н. э. римляне стали хозяевами ойкумены. Они разгромили страшных противников – Пирра и Ганнибала – и разрушили великие цивилизации греков и карфагенян. Римская власть распространялась, казалось, неостановимо, и город-государство превращался в державу с дальними владениями. Однако такой рост означал, что серьезные внутренние проблемы – а государство давало трещины уже десятки, если не сотни лет – приведут к ряду кризисов и в конце концов к краху Римской республики.
В середине V века до н. э. длительные противоречия между римской социальной и политической элитой (патрициями), с одной стороны, и менее богатыми и привилегированными людьми (плебеями) – с другой – вылились в серьезный кризис. В 451 году до н. э. два консула сложили с себя власть в пользу специальной комиссии из десяти человек – decemviri, – чьей обязанностью стало управлять государством, а главное, создавать и обнародовать свод законов. Плебеи, не желавшие, чтобы римское законодательство оставалось в тайном ведении патрициев, ратовали за это давно. Эти децемвиры, большинство из них патриции, пребывали на службе год, в течение которого создали Десять таблиц (то есть досок, так как тексты законов были высечены на десяти деревянных досках либо бронзовых пластинах). Эту первую комиссию затем сменила вторая, оказавшаяся более консервативной, которая добавила еще две таблицы, и все вместе это стало законами Двенадцати таблиц. Один из этих законов, вызвавший споры, запрещал браки между патрициями и плебеями – явная попытка закрыть доступ в сословие патрициев.
Члены децемвирата стали проявлять склонность к деспотизму и в конце срока отказались слагать с себя полномочия. Показательным примером их нахальства было поведение одного из децемвиров, патриция по имени Аппий Клавдий: он стал проявлять нездоровый интерес к прекрасной и целомудренной дочери плебея Луция Вергиния. Аппий задумал убить Вергиния и похитить его дочь Вергинию. В отчаянном бессилии Вергиний спас свою дочь от жестоких замыслов Аппия единственным возможным способом – пронзил ей сердце. Сторонники Вергиния (включая возлюбленного девушки) пронесли безжизненное тело Вергинии по форуму и «показывали его народу, оплакивая красоту девушки, навлекшую на нее злодеяние Аппия»46.
Римская история началась с массового похищения женщин, и дальнейшие ее события тоже зачастую были связаны с насилием над ними. Если смерть Лукреции привела к падению Тарквиниев, то возмущение, вызванное гибелью Вергинии – еще одной добродетельной молодой женщины, ставшей жертвой на алтаре тирании и вожделения, – привело к свержению «десяти Тарквиниев» (так стали называть децемвиров). Падение этого тяжкого режима спровоцировало ряд политических реформ, которые привели к построению более представительной политической системы, где плебеи смогли принимать более активное участие в политической жизни через выборных должностных лиц и народное собрание, где они голосовали (такие голосования назывались плебисцитами). К 367 году до н. э. был издан закон, согласно которому один из двух консулов должен был быть из плебеев, а через поколение, в 342 году до н. э., было решено, что плебеями могут быть и оба консула.
Такая социальная мобильность означала, что некоторые плебеи со временем становились богатыми и выдающимися и к середине IV века до н. э. сравнялись в правах с патрициями. Самые обеспеченные представители плебса стали формировать новую знать, nobilitas, получившую такое название потому, что эти люди были nobiles, то есть известными или знаменитыми благодаря своим предкам-плебеям, добившимся военной или политической славы. Эти почившие предки были важной частью семейной истории: восковые маски (imagines) этих блистательных предшественников украшали вход в жилище семьи. Так же делали потомки какого-нибудь поднявшегося из низов железнодорожного магната, когда вешали его портрет с усиками в прихожей в своем поместье «позолоченного века»47.
Почитание предков у римлян заходило еще дальше: во время важных народных празднеств они нанимали актеров, которые надевали посмертные маски их предков, обряжались в церемониальную тогу и ездили по улицам на колеснице. Такие проявления почтения римляне считали полезными. «Ибо кто останется равнодушным к зрелищу мужей, славных своей доблестью? – вопрошал с одобрением Полибий. – Может ли быть зрелище прекраснее этого?»48
Некоторым плебейским семьям удавалось выбраться из низших слоев, но большинство бедняков оставались в плачевном положении. В самом Риме городская беднота ютилась в инсулах (insulae) – тесных многоквартирных домах, поднимавшихся над узкими улочками на дюжину этажей. По мере того как их политические представители успешно присоединялись к сословию патрициев, plebs sordida («грязный люд»), как их презрительно называли, становился все более обездоленным. Однако к концу II века до н. э. у бедных появились герои в лице внуков Сципиона Африканского – Тиберия и Гая Гракхов, братьев из выдающейся плебейской семьи, которые попытались провести реформы по разделению земли, чтобы улучшить долю бедноты.
Распределение земли в Риме было постоянной проблемой. Рим начинался (а для многих граждан и продолжался) как сельское сообщество. Предположительно Ромул выделил каждому своему последователю участок земли размером в два югера – это примерно 5,4 квадратного километра (чуть больше поля для американского футбола). Югер (iugerum, от iugum – «ярмо») считался участком земли, который вол может вспахать за один день. Такая площадь сегодня может показаться довольно большой, но римские методы обработки земли подразумевали, что прокормить семью можно было в среднем с 15 югеров (чуть больше 4 гектаров). Таким образом, семье для пропитания требовался доступ к дополнительным участкам земли, особенно пастбищам для скота. Обычно для этого существовали общинные земли, ager publicus (от слова ager происходит «агрикультура»). Однако крупные участки этих так называемых общественных земель присвоили более богатые сословия – для частного использования. Закон 367 года до н. э. устанавливал, что в частном владении может быть до 500 югеров, но некоторые богатые римляне захватывали себе гораздо большие части ager publicus. Теоретически они должны были за это платить государству аренду, но, так как эффективной налоговой практики не существовало, эту плату никто не собирал. В этих огромных владениях, называемых latifundia (крупные поместья), трудились рабы, число которых поддерживалось военными победами Рима. Мелким землевладельцам, лишившимся доступа к пахотной земле, приходилось все труднее, и многие бросали землю и перебирались в город, где влачили столь же жалкое существование среди городской бедноты.

Римлянин с гордостью несет две маски своих умерших предков в похоронной процессии. Полибий писал, что скульпторы очень старались сделать эти маски как можно более похожими на настоящие лица
Carlo Dell’Orto / Wikimedia Commons
Землевладение было жизненно важным не только для римских граждан, которым нужно было пропитание, но и для государства, которому требовались войска. Бедные и безземельные люди не годились для военной службы, так как римскому солдату самому полагалось оплачивать себе пропитание и вооружение. Увеличение латифундий за счет мелких землевладельцев означало, что очень многие крестьяне, когда-то формировавшие значительную часть гражданского ополчения, оказывались не в состоянии исполнить требования к военной службе. Бедные и не владеющие собственностью люди в цензах записывались как proletarii, или «производители потомства», так как они не имели и не производили ничего, кроме детей.
Различные попытки реформ встречали сопротивление. В 140 году до н. э. консул по имени Гай Лелий поднял вопрос о переделе земли. Однако он встретил сильное неодобрение со стороны сената: многие из его членов сами были крупными землевладельцами и, следовательно, не были расположены к такой реформе. Лелий был вынужден стремительно передумать, за что получил прозвище Sapiens, то есть мудрый.
Следующий потенциальный реформатор, Тиберий Гракх, оказался не так мудр. В 133 году до н. э. он предложил закон, который обеспечивал бы соблюдение давно игнорируемого правила о 500 югерах. В этом законе были положения о конфискации общинных земель у богатых узурпаторов и раздаче участков земли бедным – во многом для того, чтобы увеличить число солдат. Попытки реформ для Тиберия закончились в один момент, когда он как-то утром пошел в сенат, несмотря на ряд неблагоприятных знамений: он ударился пальцем ноги о порог, увидел пару воронов, дерущихся на крыше соседского дома, а потом, ко всему прочему, обнаружил в своем старом шлеме змеиное семейство. День и вправду оказался для Тиберия злосчастным: разъяренные сенаторы до смерти забили его ножкой от стула, а потом сбросили в Тибр вместе с трупами трехсот его зверски убитых сторонников. Это был первый за много веков всплеск политического насилия и резни в Риме.
Несколько лет спустя снова пролилась кровь: красивый и пылкий брат Тиберия, Гай, тоже пострадал за предложение похожих реформ. Его враги в сенате озвучили награду: тому, кто принесет им голову Гая, они обещали отдать ее вес золотом. Награду получил бессовестный обманщик по имени Септимулей: он украл отрубленную голову Гая у его убийцы, вынул мозг и заполнил череп свинцом. Когда эту ужасную добычу положили на весы, он получил 8 килограммов золота.
Жадность, насилие, обман, раздоры, массовая резня, отрезанная голова – убийство братьев Гракхов подготовило поле для дальнейших ужасных событий.
* * *
Еще одним стремлением Гая Гракха было распространить на весь полуостров римское гражданство. Мы уже видели эффективную римскую стратегию – формирование военных союзов, где socii сохраняли автономию, при этом подчиняясь требованиям Рима, в первую очередь предоставляя солдат. Эти союзы означали, что Рим объединил под своей властью разрозненные этнические группы, населявшие полуостров: галлов, греков, этрусков, самнитов. Однако союзам пришлось нелегко из-за вторжений Пирра и Ганнибала: в обоих случаях некоторые союзники переходили на сторону врагов Рима, что обнажало непрочность и непостоянство этих объединений. Наиболее серьезные угрозы перед этим единством, а также перед римским владычеством встали во время Союзнической войны (то есть войны союзников, socii).

Римские сенаторы не одобрили предложение Тиберия Гракха о земельной реформе
Бартоломео Пинелли «Смерть Тиберия Гракха» (1818) / Penta Springs Limited / Alamy Stock Photo
Во время Союзнической войны (91–87 до н. э.) несколько союзников Рима объединились между собой и подняли восстание. Оно вспыхнуло отчасти из-за того, что союзники требовали римского гражданства – прав и привилегий, которые долгое время им не полагались (кроме солдат, которым иногда давалось избирательное право в награду за службу). Римское гражданство несло множество преимуществ: юридическую защиту, возможность занимать политические должности, налоговые послабления. Как замечает древний историк Аппиан, союзники Рима «желали, чтобы их рассматривали не как подданных, а как обладающих властью», особенно если учитывать их роль в военных успехах Рима49.
Союзники стали активнее требовать римского гражданства после реформ, начавшихся во времена братьев Гракхов, когда распределение земель должно было касаться исключительно римских граждан. Римские государственные деятели при этом не горели желанием предоставлять гражданство шире. В 95 году до н. э. был принят закон, призванный бороться со злоупотреблением привилегиями со стороны италийцев не римского происхождения: предполагалось, что некоторые из них получили гражданство без должных оснований. Из-за этого дотошного пересмотра оснований для получения гражданства усилилось имеющееся напряжение, что в конце концов привело к катастрофическому столкновению.
Толчком к восстанию стало убийство политического деятеля Марка Ливия Друза, рьяно выступавшего за предоставление прав союзникам, – в 91 году до н. э. его закололи сапожницким ножом в Риме. Союзники тотчас стали готовить восстание. Узнав об этой подрывной деятельности, римляне разослали по союзникам представителей – один из них, отправленный в город Аускул Пиценский (современный Асколи-Пичено) примерно в 200 километрах к северо-востоку от Рима, имел неосторожность угрожать местным жителям во время празднества. Жители ответили тем, что его убили, а затем перерезали всех римских граждан Аускула и разграбили их имущество. В составе объединения против Рима Аппиан называет множество племен: марсов, пелигнов, вестинов, марруцинов, пицентинов, гирпинов, япигов, луканов и «помпейских людей». Также к восстанию присоединились самниты. «Они и прежде доставляли римлянам неприятности», – чрезвычайно мягко писал Аппиан50.
Обе стороны понесли огромные потери. Трупы легионеров свозили в Рим в таких ужасающих количествах, что сенаторы начали опасаться, как бы это не стало отпугивать римских юношей от военной службы. Поэтому сенат постановил хоронить мертвых на месте гибели – такие меры вскоре стали принимать и союзники, тоже понесшие тяжелые потери. Например, около 18 000 самнитов погибло в Помпеях – это больше жертв, чем было при извержении Везувия примерно 160 лет спустя.
Оказавшись в таком безвыходном кровавом положении, римляне «восстановили пошатнувшуюся власть римского народа» (как выразился историк Веллей Патеркул), удовлетворив требование союзников о гражданстве51.
Так римляне наконец разделались с длительным недовольством и объединили полуостров. Все люди к югу от реки По (за исключением рабов) теперь имели равные права и привилегии и постепенно стали говорить на одном языке. Латинский язык стал преобладать еще больше, что привело к упадку оскского и его диалектов в течение следующих нескольких десятилетий. Таким образом из этого конфликта родилась новая Италия, собравшая воедино разрозненные и разнообразные этнические группы полуострова. Как обычно, бывшие враги Рима сами стали римлянами.
* * *
Единство как на полуострове, так и в самом Риме оставалось хрупким, политическое насилие никуда не исчезло. Десятилетия, последовавшие за Союзнической войной, стали временем, когда, по словам Аппиана, раздоры и соперничество переродились в гражданский конфликт, гражданский конфликт в убийства, «а убийства – в полноценную войну»52.
Гражданское противостояние подстрекала борьба за власть между двумя государственными и военными деятелями – Гаем Марием и его бывшим помощником Луцием Корнелием Суллой. Марий (р. 157 до н. э.) был одним из величайших воинов своего поколения, он усовершенствовал организацию армии и привел Рим к победе над галлами в 102 и 101 годах до н. э. Его реформы были масштабны. Ранее римский военный аппарат обслуживал нужды города-государства, проводившего кратковременные сезонные военные кампании, и войско состояло из граждан, призываемых на военную службу. Войска пополнялись путем набора – и само слово «легион» происходит от латинского legio, «набор». Он проходил так: консулы устраивали смотр всех мужчин призывного возраста, которые собирались на Капитолийском холме, где различные официальные лица отбирали их на службу. Однако с тех пор, как Рим приобрел заморские территории в Африке и Греции, там требовались длительные военные кампании и постоянное военное присутствие – а это непосильное бремя для призванных в армию граждан, которым нужно было возвращаться домой, к своему хозяйству и делам. Затем, как мы видели, бедных и безземельных на службу в армию не принимали, так как солдаты должны были питаться и вооружаться за свой счет, а получали лишь небольшое жалованье (и шанс на трофеи).
И вот Марий предложил реформы, по которым военная служба стала доступна беднякам, которым теперь полагались не только трофеи, но и, по окончании службы, участки земли (нередко на захваченных в бою территориях), которые между ними распределяли их командиры. Следствием стали войска, состоящие из все более профессиональных солдат на частном финансировании, обязанных своим денежным благополучием и преданные скорее своим военачальникам, чем Риму. В свою очередь, военачальники, которым нужно было оправдывать ожидания своих войск относительно земли и добычи, были вынуждены непрестанно ввязываться в военные кампании.
Марий вскоре лично напрямую ощутил последствия своих реформ. Когда закончилась Союзническая война, и он, и Сулла хотели возглавить запланированный военный поход против Митридата VI, который правил эллинистическим Понтийским царством. Под его властью находились огромные территории, включавшие бо́льшую часть современной Турции и все Причерноморье. Со времен Ганнибала Митридат был самым страшным врагом Рима – человеком, про которого говорили, что он владел 22 языками, и его было невозможно отравить, поскольку он ежедневно принимал небольшие дозы смертельных ядов. Его воины – вооруженные квадратными щитами и мечом, сика, – как и самниты, стали прообразом для одного из устрашающих видов гладиаторов на римских аренах – «фракийца».
Сенат предложил командование походом – а с ним и возможность снискать славу и добычу – Сулле. Этот безжалостный командир еще во время Союзнической войны отличался чрезмерной жестокостью (например, именно он стоял за свирепой расправой над самнитами в Помпеях). Однако за счет махинаций политического деятеля по имени Публий Сульпиций Руф командование походом вскоре было передано Марию. Стоявшие лагерем подле Рима войска Суллы забросали камнями посланников, принесших эту неприятную весть, а в ответ на это Марий убил многих сторонников Суллы в городе. Тогда Сулла отправил в город легионы, более преданные ему, чем государству (правда, многие офицеры, к их чести, отказались). Солдаты перешли pomerium – проведенную Ромулом границу – и начали пускать горящие стрелы в толпу, которая бросалась в них камнями и черепицей. Марий бежал из города, угнав лодку (великий полководец победил старого рыбака) и отплыл в Африку. Сулла, взяв Рим силой, наконец получил свою награду и отбыл на войну с Митридатом. Аппиан с горечью замечает, что «с тех пор не прекращались распри, разрешаемые военным путем», и сетует, что «действующие насилием» взяли под контроль государство53.
Вернувшись из Азии через несколько лет, Сулла обнаружил, что город в руках его врагов, – поэтому он со своими войсками вторгся в Рим во второй раз. Он принял на себя полномочия диктатора – эта должность временного магистрата была предусмотрена для решения конкретных проблем. Как писал Плутарх, «Сулла принялся за резню и наполнил город бесчисленными и безграничными убийствами54. Имена его врагов, «проскрибированных», вывешивались на форуме, где указывались награды за поимку и наказания для тех, кто будет их укрывать. Имущество проскрибированных конфисковывалось, а их отрубленными головами Сулла украшал свой дворец. Аппиан называет жертвами проскрипций 15 бывших консулов, 90 сенаторов и 100 000 солдат с обеих сторон.
Спустя недолгое время Сулла снял с себя полномочия диктатора, проведя ряд реформ, которые, помимо прочего, укрепили власть сената, восстанавливая полномочия, отмененные во время политического неспокойствия. Приведя Рим в состояние некоторого порядка и стабильности, хотя и чрезвычайно насильственными способами, Сулла удалился в свое загородное поместье в Кумах. Но от старых привычек не так просто избавиться: год спустя он так кричал на своих людей, чтобы они задушили местного магистрата, что у него открылось кровотечение, оказавшееся смертельным.
* * *
Восстания, гражданская война, резня, частные армии, вторжения Рима, безжалостные целеустремленные лидеры, призрак самовластия – спровоцированный Суллой кошмарный кризис 80-х годов I века до н. э. стал, как и убийства братьев Гракхов, мрачным предзнаменованием последующих десятилетий.
Одним из вершителей гражданской войны в Риме стал бывший сторонник Суллы Гней Помпей. Мало кто в истории питал такие надменные мечты о личной славе, а потом словно бы с легкостью их воплощал. В 81 году до н. э., всего лишь 25-летним, Помпей добавил к своему имени прозвище Великий в подражание Александру – позднее Помпей заявлял, что плащ великого македонца достался ему, и копировал его прическу (волосы зачесаны назад, пробор посередине). Он стал знаменит своими суровыми военными кампаниями на Сицилии, в Испании и Африке, где от имени Суллы истребил сторонников Гая Мария и заслужил еще одно прозвище – adulescentulus carnifex (юноша-палач). Когда он осаждал город Калагуррис в Испании, жители съели весь скот, а затем в отчаянии обратились к «святотатственному обеду» из своих жен и детей55. Славу о своей жесткой эффективности он преумножил, когда в 71 году до н. э. распял вдоль Аппиевой дороги тысячи беглых рабов, принявших участие в восстании гладиатора Спартака. Помпею было поручено избавить Средиземное море от пиратов, в связи с чем он получил столь чрезвычайные и беспрецедентные полномочия и ресурсы, что сенат опасался, как бы Рим вскоре не пришел к единоличному военному правлению. Помпей разгромил пиратов в считаные месяцы, и благодарность жителей острова Делос была так велика, что некоторые из них стали почитать его как божество.
Наибольших успехов Помпей добился в Азии, где победил царя Митридата, которого подвела диета из ядов, когда он попытался себя отравить. (Ему пришлось призвать на помощь воина с мечом.) Кроме того, Помпей захватил Иерусалим, сделал римской провинцией Сирию и основал по всей Азии 39 городов, один из которых, как водится, презрев всякую скромность, окрестил Помпейополем. Он стал величаться новым титулом – Владыка земли и моря.
Победы Помпея в Азии и его популярность среди римского народа беспокоили многих сенаторов, которые не хотели признавать его территории на востоке и давать землю его ветеранам. Так что Помпей образовал стратегический союз с еще одним энергичным и умным полководцем – Гаем Юлием Цезарем. Они оба сочетали в себе выдающиеся лидерские качества и военную смекалку с невероятной целеустремленностью и беспощадной суровостью. Их союз изменит соотношение сил в Римской республике и станет началом столкновения, которое продлится несколько десятилетий.

Гней Помпей Магн, он же Помпей Великий. Родился в 106 году до н. э. С юных лет отличался безжалостностью
Didier Descouens. Коллекция Национального археологического музея, Венеция / Wikimedia Commons CC 4.0
* * *
Худощавый, с залысинами, бледный, страдая головными болями и падучей (вероятно, от эпилепсии), Юлий Цезарь физически был непривлекателен56. Однако он был обаятелен, тщеславен, фанатично целеустремлен и к 40 годам успел создать о себе славу в Риме и за его пределами. Он родился летом 100 года до н. э., в месяц квинтилий (после его смерти месяц будет переименован в Iulius, откуда пошел «июль»). Мало кто мог с таким удовлетворением рассматривать свою родословную: Цезарь считал, что по одной линии он происходит от Анка Марция, четвертого римского царя, а по другой аж от самой Венеры. В одной из своих речей он заявил, что обладает «неприкосновенностью царей, которые наделены наибольшей властью среди людей, и священностью богов, под властью которых находятся сами цари»57. Вера в такую выдающуюся родословную мало способствовала увеличению в нем и без того скудных запасов скромности.
Имя Цезаря (Caesar, по-латински читается как «кайсар») пошло от его далекого предка, Секста Юлия, который, по легенде, убил одного из слонов Ганнибала. У всех римлян было личное имя (в данном случае Секст), затем родовое имя (Юлий). Многие также брали себе или получали от других третье имя, когномен, которое обычно отсылало к какой-либо личной особенности, месту рождения или славному деянию. Как мы видели, Луций Юний получил прозвище Brutus (тупой), а Гай Лелий стал Sapiens, то есть мудрым. Черты внешности дали имена другим римлянам, например Страбону (косоглазый) или Барбату (бородатый). Что до Секста Юлия, то коль скоро по-финикийски слон будет caesai, а латинский глагол caedo означает убивать, он благодаря остроумной игре слов стал Секстом Юлием Цезарем, то есть Секстом Юлием Слоноубийцей. Этот когномен, как и многие другие, передавался следующим поколениям, более века спустя стал принадлежать дальнему потомку Секста и в конце концов достался многочисленным кайзерам и царям.
Отец Цезаря, тоже Гай Юлий Цезарь, сделал впечатляющую политическую карьеру, а затем отошел от кровавых войн и примерно в 84 году до н. э., когда его сын был еще подростком, умер в своей постели (редкий случай в те страшные времена). Вскоре после этого Цезарь воодушевленно взялся за свою военную карьеру. Он несколько лет провел в военных кампаниях в Азии, завоевал известность своими выдающимися храбрыми деяниями, но при этом оказался в двусмысленной ситуации, когда его веселое времяпрепровождение при дворе вифинского царя Никомеда (в современной Турции) привело к тому, что его стали подозревать в близких сношениях с царем (поэт Лициний Кальв назвал его «задним дружком Цезаря»58). Байки о том, как он кувыркался на пурпурных простынях, снискали Цезарю злобное прозвище Bithynica regina (вифинская царица). Позднее из-за этой истории над Цезарем издевались его же солдаты, и он настолько «был этим весьма огорчен и явно из-за этого печалился», что даже поклялся, что не вступал в эту связь, – «чем вызвал еще больше насмешек»59.
Римляне не воспринимали сексуальные отношения между двумя мужчинами как что-то противоестественное или оскорбительное; проблема была лишь в позиции (в буквальном смысле) партнеров. Как и греки, римляне судили сексуальное поведение не по полу участников, а по их роли. Для свободнорожденного римского мужчины брать на себя роль пассивного, принимающего сексуального партнера (становиться так называемым cinaedus) считалось лишающим мужского достоинства, в то время как доминирующая роль проникающего партнера была приемлема60. Кинеды жестоко высмеивались в римской литературе (и, несомненно, на римских улицах) как люди изнеженные и мягкие – прорывной, энергичный Цезарь непременно с ужасом отпрянул бы от таких ассоциаций.
У Горация agrestis – букв. сельский, в переносном значении – грубый, неотесанный. Сравните с переводом А. А. Фета:
Пленная Греция в плен забрала победителя, внесшиВ Лациум грубый искусства. – Прим. пер.
[Закрыть]
The free sample has ended.