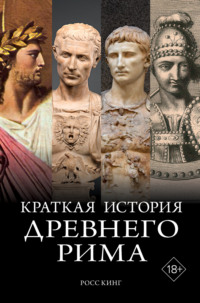Read the book: «Краткая история Древнего Рима», page 2
509 год до н. э., надругательство над Лукрецией, изгнание Тарквиниев – вся эта информация столь же ненадежна, как и миф о Ромуле. На самом деле переход от царской власти к республике мог происходить более упорядоченно, длительно и даже более мирно: полномочия царя могли постепенно, в ходе ряда реформ, переходить к консулам и магистратам. Однако таким спокойным рассказом хороших кассовых сборов не добиться, и римская история в привычном изложении включает в себя еще много сюжетных линий, годных для блокбастеров. Согласно легенде, при новом строе семейные распри не прекращались и республика пережила свое зарождение благодаря дальнейшему кровопролитию.

На этой картине Артемизии Джентилески 1627 года Лукреция готовится пронзить себя насмерть ножом. Смена политического строя в Риме, по крайней мере в легендах, часто была связана с насилием по отношению к женщинам
Коллекция музея Пола Гетти, Лос-Анджелес
Еще один пример семейного раскола и конфликта интересов: Брут был племянником Тарквиния, которого он сверг. Когда два его сына встали на сторону свергнутого царя, Брут велел их обезглавить и даже сам присутствовал при этом кровавом зрелище. Такое хладнокровие позднее впечатлило Никколо Макиавелли, для которого «убить сыновей Брута» стало девизом жесткости и непреклонности, необходимой политическим лидерам при принятии тяжелых решений, чтобы удерживать власть и сохранить государство. Хорошо это или плохо, но в римской истории будет много таких кровавых примеров.
2
«Милость небес»: возвышение Римской республики
Когда зародилась Римская республика, население Апеннинского полуострова составляло около 4 миллионов человек. Сам Рим имел площадь порядка 800 квадратных километров (это примерно столько же, сколько занимают пять муниципалитетов современного Нью-Йорка) и насчитывал около 35 000 человек. В следующие пять столетий население полуострова вырастет вдвое. Более того, из края греческих и этрусских городов и разрозненных поселений, где жили племена, носители нескольких десятков разных языков и диалектов, с разными обычаями, то и дело вступающие между собой в шаткие союзы, заключающие между собой и расторгающие шаткие союзы, эта земля станет с политической, культурной и языковой точки зрения единым целым.
Одну из первых побед молодая Римская республика одержала над Латинским союзом – объединением соседних племен с общим языком, религией и традициями. Римляне установили над ними военную власть еще в царский период, но в 499 году до н. э. латины восстали под руководством изгнанного из Рима Тарквиния Гордого в его последней попытке вернуть власть. Согласно легенде, римляне победили их, когда на их сторону героически встали два гиганта, братья Кастор и Поллукс.
Рим уверенно расширял свои территории в течение последующего столетия. Одним из важнейших завоеваний был захват и разрушение в 396 году до н. э. давнего соперника – этрусского города Вейи приблизительно в 15 километрах к северу. Вейи были самым богатым, самым южным и, если считать по площади (почти 350 квадратных километров), самым большим этрусским городом. После череды сражений и перемирий римляне в 407 году до н. э. начали длительную осаду города и окончательно захватили его в 396 году. Они перерезали значительную часть населения, продали оставшихся людей в рабство, а добычи в городе было настолько чудовищно много, что «огромное множество» римлян жадно отправилось в Вейи, чтобы урвать себе свою долю трофеев18. Среди добычи оказалась статуя богини Юноны, «Царицы Вейев», которую забрали в Рим и установили в специально для нее построенном храме на Авентинском холме.
Судьба этой статуи Юноны из Вейев отражает судьбу всей этрусской культуры, также присвоенной римлянами. В течение следующих полутора столетий великая цивилизация этрусков методично поглощалась римской. Римляне переняли многие этрусские элементы церемониала: от одеяния с пурпурной полосой и инкрустированного слоновой костью трона этрусских царей до их триумфальных колесниц и скипетра с орлом. Также римляне заимствовали fasces – связку прутьев, внутри которой спрятан топор, – такие связки носили перед римскими магистратами. Прутья означали их полномочия исполнить наказание, а топор – их право отрубить голову. Этрусский язык исчез, за исключением определенных слов, перешедших от этрусков к римлянам: например, autumnus (осень), catamitus (любимчик), ferrum (железо) и Idus (иды, например мартовские иды).
В римской истории, как мы еще увидим, то и дело повторяются радикальные повороты судьбы: за сокрушительным поражением следует эффектная победа или (как в этом случае) наоборот. Только победив этрусков в Вейях, Рим испытал оглушительное поражение: город захватила банда галльских отщепенцев. На севере Италии обитали многочисленные кельтские племена – они еще в XIII веке до н. э. перешли туда через Альпы со своих поселений в Центральной и Восточной Европе. Они заняли земли в долине реки По и на побережье Адриатического моря, основали такие поселения, как Медиолан (Милан). Римляне называли их галлами – это был собирательный термин для всех кельтских племен, например боев, ценоманов и инсубров (это название означает «яростные»). Примерно к 400 году до н. э. они занимали бо́льшую часть территорий к востоку от Апеннин, раньше бывших под контролем этрусков. Эти территории получили название Цизальпинская Галлия (в отличие от Gallia Transalpina, Трансальпинской Галлии, по ту сторону Альп, где сейчас юг Франции).
Постепенное перемещение галлов на юг и распространение римлян на север привело к неизбежному конфликту двух культур. По легенде, примерно в 390 году до н. э. сеноны, галльское племя, разгромили римлян у реки Аллия, затем прошли 15 километров до Рима, захватили его, сожгли и перебили многих жителей. Это нападение заставило римлян удлинить и укрепить оборонительные сооружения (Сервиеву стену, названную по имени Сервия Туллия), построенные в VI веке до н. э. До наших дней сохранились части этой стены, изначально более 10 километров протяженностью, а местами более 10 метров в высоту и 3,5 метра толщиной. Короткий участок этих грубых камней можно увидеть, выйдя с вокзала Термини в Риме. Еще один находится внутри самого вокзала, под платформой 24, где выходят из поезда пассажиры, прибывшие из аэропорта Фьюмичино на экспрессе «Леонардо».
Другим последствием этого захвата был непрекращающийся страх, который один немецкий ученый в 1985 году назвал metus Gallicus, или «страх перед галлами»19. Эта иррациональная парализующая паника продолжалась веками и относилась к любым пришельцам с севера – а их будет много.
* * *
Нападение галлов мало помешало римской экспансии. Два года спустя римляне напали на Тарквинии, процветающий этрусский город в 95 километрах от Рима. Затем, в 381 году до н. э., они захватили и присоединили Тускул, крупное поселение латинов в 25 километрах к юго-востоку от Рима. Многие другие города Лация, будучи союзниками Рима, но при этом все больше беспокоясь из-за расширения его влияния, в 340 году до н. э. подняли восстание. Ливий утверждал, что этот конфликт, длившийся в течение двух лет, сопоставим с гражданской войной, «до такой степени латины не отличались от римлян»20.
По окончании войны римляне и латины сблизились еще сильнее: жителям побежденных латинских городов было даровано римское гражданство, что давало им право голосовать и занимать должности в Риме, а также, самое главное, обязывало их нести военную службу. Жители более отдаленных покоренных городов, таких как Капуя и Кумы, получили частичное гражданство (оно называлось civitas sine suffragio, то есть «гражданство без права голоса»), тем самым они предоставляли Риму войска, но, как следует из названия, не имели политических прав. Все они назывались socii – это множественное число от socius, «союзник» (этот корень имеют наши слова «социум» и «ассоциация»).
Таким образом, римляне разработали систему взаимоотношений со своими бывшими врагами в городах и этнических сообществах по всему полуострову, создав нечто вроде федерации из племен и городов-государств с Римом во главе. Основной обязанностью socii было предоставлять Риму солдат во время военных походов, а взамен те получали защиту и долю трофеев и добычи. Римская территория стремительно расширялась и стала занимать почти 8000 квадратных километров с населением примерно в 484 000 человек. В последующие десятилетия, а затем и столетия Рим, уже обладая наибольшей военной мощью в Италии, получил преимущество в виде внушительного военного резерва благодаря большому числу союзников, которые в некоторых военных кампаниях превосходили численностью войска самих римлян. Объединение между Римом и его союзниками стало одной из важнейших причин римского успеха. Благодаря увеличению войск и доступности опытных солдат и разнообразных военных тактик Рим вскоре стал обладателем значительных вооруженных сил, необходимых как для завоеваний, так и для обороны.
При этом римляне продолжали сталкиваться с трудностями и терпели поражения, порой очень значительные. К середине IV века до н. э. их самым неумолимым врагом стало суровое горное оскское племя самнитов, ответвление сабинян. Племена-носители оскских языков постепенно распространились по центральной и южной части полуострова благодаря ритуалу, известному как Ver Sacrum («Священная весна»). В неблагополучные времена, наиболее вероятно из-за голода или перенаселенности, племя приносило в жертву божеству, обычно Марсу (у осков его звали Мамерс), весь новый приплод скота. Более того, божеству посвящали также всех детей, родившихся той весной: по достижении определенного возраста детей приводили к границе и, вооруженных до зубов, отправляли искать себе новые земли, при необходимости насильно отнимая их у местного населения. Этих sacrani («посвященных») зачастую приводили на новое место жительства птицы или звери, своего рода тотемные животные, от которых впоследствии получала свое название община.
Например, сабиняне отправили группу посвященных со своей территории на север и восток от нынешнего Рима. Эти sacrani перешли через Апеннины в Марке, следуя за дятлом (по-латински picus), от которого получил свое название народ пицены. (На флаге региона Марке сегодня гордо красуется дятел.) Другая ветвь сабинян также шла на восток вслед за быком, пока он не остановился в горах. Там посвященные основали Бовианум, в честь своего проводника, bos. Это племя стало самнитами, а их горные территории, Самний, занимали большой кусок Центральной Италии. Другая группа самнитов со временем мигрировала на юг, следуя за волком (по-оскски hirpus), от которого они получили название ирпины, сыны волка. Эти легенды подтверждаются различными античными источниками, но при этом могут быть ретроспективными конструкциями, попытками объяснить пути миграции, причиной которой были войны, неурожай и неустойчивый прирост населения.
С самнитами римляне бились в течение многих десятилетий. В 321 году до н. э. они потерпели сокрушительное поражение в Кавдинском ущелье – узком проходе через Апеннины примерно в 225 километрах к югу от Рима. Победители-самниты, чтобы унизить римских солдат, заставили их проходить под ярмом (sub iugum). Свирепость самнитов, а также их великолепные доспехи и вооружение вдохновили римлян на то, что на их аренах появились гладиаторы-«самниты»: воины, вооруженные прямоугольным щитом, копьем и коротким мечом (gladius).
Самниты наконец сдались и в 291 году до н. э. стали socii. Через три десятилетия таким же образом были захвачены и сделались союзниками пицены – народ дятла. Так к середине III века до н. э. после ряда побед, влекущих за собой образование союза, практически весь полуостров вошел в состав римской федерации. Сама римская территория занимала более 25 000 квадратных километров, а взрослое мужское население составляло почти 300 000 человек21.

Фреска с изображением самнитских воинов, датируется IV веком до н. э.
Коллекция Национального археологического музея Неаполя / Shonagon / Wikimedia Commons
Помимо галлов на севере, этрусков и латинов в Центральной Италии и оскских племен, включающих в себя самнитов и пиценов, римляне также контролировали Великую Грецию. Одним из немногих городов, сопротивлявшихся римскому владычеству, был Тарент, с V века до н. э. ставший главным городом в Великой Греции. В 280 году до н. э., опасаясь посягательств со стороны Рима, тарентцы обратились за помощью к Пирру, царю эпирского народа молосцев на Ионическом побережье Греции (и двоюродному брату Александра Македонского). Пирр отреагировал, придя с армией в 25 000 человек с 20 боевыми слонами. Он потерпел кораблекрушение, переплывая через море, но тем не менее разбил римлян в двух крупных сражениях. Первое было при Гераклее, греческой колонии, союзнице Тарента в борьбе против римлян. Вторая битва произошла на равнине под Аускулом (современный Асколи-Сатриано), где огромную разрушительную роль сыграли слоны – существа, которых большинство римлян никогда прежде не видели. Однако Пиррово войско понесло столь значительные потери, что, по свидетельству Плутарха, Пирр произнес фразу: «Если мы одержим еще одну такую победу над римлянами, то окончательно погибнем»22, – откуда пошло выражение «пиррова победа». В 275 году до н. э. он вернулся в Грецию, провалив дело. Он умер в Аргосе в 272 году до н. э. – к тому моменту Тарент покорился римлянам и стал их последним союзником.
Это нападение Пирра было лишь предзнаменованием того, что произошло дальше, когда в последующие десятилетия Рим вел ряд продолжительных и затратных войн против великой державы Средиземноморья – Карфагена.
Карфаген был колонией, которую в 814 году до н. э. основали на северном побережье Африки (на территории современного Туниса) финикийцы из Тира; на финикийском языке это слово означает просто «новый город». Скоро он стал одной из богатейших и сильнейших колоний в Средиземноморье и контролировал морские пути на запад и расширял свое влияние на северном побережье Африканского континента (на территориях современных Ливии и Марокко), а также на Сицилию, Сардинию и юг Испании. По ходу дела карфагеняне вступали в конфликт с греками, этрусками и сиракузцы. При этом с римлянами они сохраняли хорошие отношения до тех пор, пока те не нарушили равновесие, в середине III века до н. э. вторгшись в Великую Грецию.

Мраморный бюст Пирра из Эпира
Коллекция Национального археологического музея Неаполя / Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons CC-BY 2.5
Очагом конфликта стало южноиталийское племя мамертинов, «сынов Марса». Это была самнитская ветвь, поселившаяся после Священной весны на Сицилии и в 288 году до н. э. силой взявшая город Мессану (Мессину) на северо-восточной оконечности острова. Соседи – сиракузцы – в надежде выгнать мамертинов попросили помощи и у римлян, и у карфагенян. Последние прислали небольшой гарнизон, отчего римляне, по словам Полибия, «сильно боялись», так как могли предвидеть тот день, когда карфагеняне займут Сицилию и станут страшными и опасными соседями, «которые окружат их кольцом и будут угрожать всем частям Италии»23. Из опасений перед карфагенской экспансией римляне позаимствовали у тарентцев и других союзников корабли и, впервые в своей истории, отправили армию за море – через Мессинский пролив. Так начались Пунические войны, известные под таким названием потому, что римляне называли карфагенян пунийцами – так они передавали принятое у греков слово «финикийцы», или Phoenikes. Во время трех Пунических войн – шедших с перерывами с 264 по 146 год до н. э. – Рим столкнулся с самыми большими трудностями на тот момент своей истории. Как писал Полибий, «нелегко указать более продолжительную войну, лучшее во всех отношениях вооружение, более напряженную деятельность, более многочисленные сражения и более замечательные превратности счастия, чем те, какие испытаны были обеими сторонами в этой войне»24.
Римляне освободили осажденных в Мессине мамертинов, затем повернули на юг, чтобы напасть на Сиракузы, которые без колебаний приняли их условия и стали союзниками Рима. Теперь пришла очередь бояться Карфагену, особенно после того, как римляне прошли через весь остров на юг и жестоко разгромили Акрагант (Агридженто), который был карфагенским союзником. В 262 году до н. э. римляне разгромили карфагенян в битве на сицилийской земле, но, чтобы по-настоящему уничтожить противника, в чьих руках находилось Средиземное море, требовался флот. Единственной проблемой было то, что, как писал Полибий, они, «никогда раньше не помышляя о морских завоеваниях», не имели кораблей. А была у них, как с восхищением замечает Полибий, «необычайная отвага», и они, не падая духом, построили сто военных кораблей за 60 дней, проанализировав и воспроизведя во всех деталях военное судно карфагенян, которое попало к ним в руки, сев на мель в Мессинском проливе25. Пока флот строился, новоиспеченные римские моряки являли пример первой сухой гребли: сидели на скамьях на суше с веслами в руках и отрабатывали технику.
Эти усилия окупились сторицей. Римляне одержали несколько морских побед на северном (260 до н. э.) и южном (256 до н. э.) побережьях Сицилии. Однако в последующие десятилетия римлян преследовали и неудачи, одна из которых связана с великим карфагенским полководцем Гамилькаром Баркой (его прозвище на финикийском языке означало молнию). Наконец, после более чем двадцати лет войны, и у римлян, и у карфагенян истощились как денежные, так и военные ресурсы. Римлянам удалось построить новый флот, и в 241 году до н. э. они разгромили карфагенян у западного побережья Сицилии. Гамилькар неохотно заключил с римлянами мир, на том условии, что он полностью уберется с острова. Сицилия стала первой из более чем 40 территорий, которые впредь будут называться римскими провинциями – то есть областями за пределами Италии, которыми управляют должностные лица, назначенные сенатом.
У Гамилькара был шестилетний сын, и потерпевший поражение полководец заставил его на алтаре принести клятву никогда не быть другом Рима. Мальчика звали Ганнибал, и эту священную клятву он сдержал.
* * *
Десятилетнего Ганнибала в 237 году до н. э. отец привез в Иберию. К 221 году до н. э., когда ему было немногим более 25 лет, он стал видным бойцом и военным тактиком с верховной властью над карфагенскими войсками на Пиренейском полуострове. По словам Ливия, «не было такого труда, от которого бы он уставал телом или падал духом»26. Однако, если верить Плинию Старшему, Ганнибал также был вероломным, безжалостно жестоким, беспринципным человеком и не обладал крепкими моральными устоями и страхом перед богами. Такой устрашающий противник вскоре обрушился на Рим.
На этот раз очагом стал Сагунт – город-крепость на берегу Балеарского моря (современный Сагунто, в 320 километрах к югу от Барселоны), за несколько лет до того вверивший себя Риму. Ганнибал счел, что этот римский союзник в Иберии мешает интересам Карфагена. Поэтому он спровоцировал конфликт, объявив, что группа сагунтийцев нехорошо обошлась с соседним поселением карфагенских подданных. Рим медлил с ответом (в связи с чем появилась поговорка про пустую трату времени, которая до сих пор в ходу в Италии: mentre a Roma si delibera, Sagunto viene espugnata – «Пока в Риме спорят, Сагунто уже захвачен»). Воспользовавшись ситуацией, Ганнибал осадил Сагунт в 219 году до н. э., убежденный, согласно Полибию, «что запугает все тамошние народы»27 – не только иберийские племена, которые он пытался завоевать, но, что еще важнее, римлян.
Сагунт пал, сраженный войсками Ганнибала, после восьмимесячной осады. Тогда Ганнибал стал планировать следующий шаг, оказавшийся еще более дерзким. Ранней весной 218 года до н. э. он выступил в поход и прошел от юга Испании через Пиренеи, а затем через Альпы в Италию – расстояние около 1500 километров. Этот трудный сухопутный маршрут Ганнибал выбрал отчасти для того, чтобы избежать столкновения с превосходящей мощью Рима на море, а отчасти потому, что рассчитывал объединить под своим началом галлов, которые незадолго до этого возобновили вражеские действия по отношению к Риму в долине реки По. Он удостоверился в военной отваге кельтских племен и, по словам Полибия, «прежде всего в их ненависти к Риму»28.
Такой долгий и невероятно трудный поход оказался связан с огромными проблемами логистики. Армия Ганнибала по выходе насчитывала более 100 000 человек, включая конницу в 12 000 лошадей и знаменитый отряд с 37 боевыми слонами. Слоны могли чрезвычайно хорошо устрашать и громить противника на поле боя, однако поход на полторы тысячи километров представлялся рискованным, учитывая, что взрослому слону нужно съедать более ста килограммов растительности ежедневно – процесс этот занимает минимум десять часов и сильно затруднен недостатком растений в высокогорных Альпах29. Даже на недельный поход корм для слонов должны были нести 200 вьючных животных30. А ведь были еще десятки тысяч солдат, которые тоже нуждались в провизии. Когда Ганнибал раздумывал, как ему обеспечить войско провиантом, один из его военачальников предложил пугающее решение: Ганнибалу придется уговорить своих солдат есть человеческое мясо. По словам Полибия, «Ганнибал не мог не признать всей пригодности такого смелого предложения»31. Однако к столь отчаянным мерам прибегнут впоследствии не карфагеняне, а италийцы.
Так началась одна из величайших военных кампаний в истории. В этом ошеломительном походе войска Ганнибала с боем пробирались через территории враждебных племен на юге Франции, на специально сделанных плотах переправляли слонов через Рону. Животные посередине реки около 800 метров шириной испугались, опрокинули плоты и утопили своих погонщиков. Сами слоны остались живы: прошли по дну реки, подняв хоботы, как трубки для подводного плавания.

Фреска XVI века работы Якопо Рипанды: Ганнибал верхом на одном из своих слонов – возможно, это слон по кличке Сур, последний выживший из этого обреченного отряда
Коллекция Палаццо-дей-Кон-серватори, Рим / Jose Luiz Bernardes Ribeiro / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Потом был переход через Альпы. О точном маршруте много спорят, и вряд ли он когда-нибудь будет известен, хотя Полибий, собирая информацию для своего труда, не только беседовал с очевидцами, но даже побывал в Альпах. Где бы ни проходил путь, он был жутким испытанием: напуганные лошади, рассеявшийся строй войск, вьючные животные падают в расщелины или погибают от истощения, враждебные местные племена устраивают засады и скатывают на войско булыжники, слоны со скоростью улитки тащатся по бездорожью и, разумеется, от холодных обильных снегопадов голодные и недовольные солдаты промокают и ослабевают. Путь из Картахены к долине По занял пять месяцев и стоил Ганнибалу – по его подсчетам – 36 000 человек и почти всех слонов. Нескольких ему удалось перевести, правда, как замечает Полибий, «в плохом состоянии из-за голода»32.
Достижения Ганнибала тем больше шокируют, если учесть, что его изможденная, истощенная армия разбила римлян в конной стычке близ Павии, а затем, с подкреплением от галлов, в более крупном сражении при Пьяченце. В июне 217 года до н. э. Ганнибал, хотя остался с одним глазом и одним слоном, разгромил римлян на Тразименском озере: его войска явились из утреннего тумана и в разрушительном натиске убили 15 000 солдат, а еще 10 000 взяли в плен. Римский военачальник, консул Гай Фламиний, погиб на поле боя. Римляне после таких сокрушительных потерь оказались в столь отчаянном положении, что позаимствовали у осков практику Священной весны: поклялись принести в жертву Юпитеру всех животных, которые родятся следующей весной.
Юпитер явно не был удовлетворен. Успехи Ганнибала оказались всего лишь прелюдией к следующей, самой знаменитой его победе – в битве при Каннах в августе 216 года до н. э., которую более двух веков спустя один римский поэт назвал «могилой Гесперии»3334. Карфагеняне в бурю сражались с численно превосходящей их римской армией, которую Ганнибал в результате блистательного тактического маневра взял в кольцо и безжалостно перебил. По разным подсчетам, потери римлян составили от 55 тысяч до 70 тысяч человек. Известно, что потери в сражениях древности всегда преувеличивали, но все же в этой битве, вероятно, за один день погибло больше людей, чем за день в какой-либо другой битве западной армии. Несколько античных историков сообщают, что погибших было так много, что Ганнибал, всегда отличавшийся находчивостью, соорудил мост из их тел.
Паника и хаос в Риме достигли таких масштабов, что умилостивить неистовых богов решили еще более крайними мерами, чем Священная весна: две пары, греческая и кельтская, были заживо замурованы в подземелье на Бычьем форуме – городском рынке, где торговали скотом. Это был один из тех редких случаев, когда римляне приносили человеческие жертвы. Позднее римских историков смущали эти ритуализированные убийства: Ливий писал, что такие «необычные жертвы» были «совершенно чужды римским священнодействиям»35. Ганнибал вверг Рим в экзистенциальный кризис.
Ганнибал готовился к походу на Рим, докуда было около 400 километров. Начальник его конницы Магарбал предсказывал, что через четыре дня он будет с триумфом ужинать в Риме. Ганнибал сказал, что ему нужно время на раздумья, на что Магарбал ответил: «Ганнибал, ты умеешь побеждать, но пользоваться победой не умеешь!»36 Однако далеко не очевидно, что Рим пал бы, несмотря на превосходство Ганнибала в сухопутном бою. У него не хватало осадных орудий, а это значило, что Рим с его крепкими стенами было бы практически невозможно захватить. Даже на небольшой городок Петелия (в современной Калабрии) у него ушло целых одиннадцать месяцев – и там ситуация стала настолько мрачной, что, когда иссякли запасы продовольствия, люди сначала ели кожу, потом побеги и ветки деревьев, а в конце концов (если верить более позднему писателю Петронию) и друг друга. Кроме того, у Ганнибала не было постоянного источника провианта для армии, запасы которого он пополнял по большей части, грабя местные поселения. Его ресурсы ограничивались разграбляемой сельской местностью, и в конце концов он разрушил около 400 городков и деревень. Hannibal ad portas (Ганнибал у ворот) позднее стало фразой, выражающей страх перед нависшей катастрофой.
За 15 проведенных на италийской земле лет Ганнибал достиг удивительно мало. Он понял, что его успех зависел не только от поддержки галлов, но и – если бы он смог стать для италийского населения спасителем от римского владычества – от того, что союзники на всем полуострове рассредоточились бы от Рима. В этом ему удалось кое-чего достичь. И Полибий, и Ливий говорят о «восстании Италии» во время вторжения Ганнибала. Конечно, несколько городов отложились от римлян на юге: победа Ганнибала при Каннах означала, что практически вся Великая Греция перешла на его сторону, то же сделали и некоторые оскские народы. Капуя, самый населенный и важный город Италии после Рима (от которого в Рим идет Аппиева дорога – первая из великих римских дорог), тоже перестала быть союзником Рима после Канн. Ганнибал также мог рассчитывать на галлов: одно галльское племя из засады напало на два римских легиона в 215 году до н. э. Галлы отрубили голову военачальнику Луцию Постумию Альбину, а потом пили из его черепа.
Тем не менее у Рима еще оставались союзники на полуострове. Большинство оскских племен, относительно которых Ганнибал питал большие надежды, остались верны Риму и предоставили огромное число воинов (по некоторым оценкам, полмиллиона человек). Тем временем превосходство римлян на море мешало Ганнибалу получать провизию и подкрепление, а также, несмотря на то что он нападал на Неаполь и Кумы, не давало захватить какую-нибудь гавань. В результате он был вынужден оставаться на юге Италии до 203 года до н. э., когда римляне под руководством Публия Корнелия Сципиона стали сражаться на территории Африки, и Ганнибала призвали в Карфаген. Там год спустя в битве при Заме он потерпел полное поражение, проиграв Сципиону, который за эту знаменательную победу впоследствии получил прозвище Сципион Африканский. Тактика Ганнибала, когда он выпустил 80 боевых слонов, не оправдала себя: многие слоны, испугавшись пронзительного звука римских труб, развернулись и растоптали карфагенскую конницу.
Война против Ганнибала стала ключевым событием для формирования римского самосознания и определила судьбу Рима. Ливий утверждал, оценивая последствия Канн: «Любой другой народ был бы уничтожен столь огромным несчастьем». Восстановление Рима после одного из тяжелейших в истории военных поражений и дальнейшая его победа над таким страшным воителем стали легендой – «лучшим часом» Рима37. Впереди его ждет еще много трудностей и неблагополучных обстоятельств, однако путь к мировому господству был открыт.
* * *
Римляне столкнулись с карфагенянами еще раз, во время Третьей Пунической войны, главным событием которой после трех лет противостояния стало уничтожение Карфагена. Здания были разрушены, улицы перепаханы, а земля ритуально проклята (хотя, вопреки легенде, считается, что поля все-таки не засевали солью)38. Эта победа ознаменовала конец великой карфагенской цивилизации, изменила геополитический ландшафт Средиземноморья и укрепила римское господство в этом регионе на много веков вперед. Рим создал огромную новую провинцию, Африку, занимавшую более 12 000 квадратных километров на территории современных Туниса, Ливии и Алжира.
Вскоре после разрушения Карфагена римляне разорили еще один великий древний город – Коринф. В 214 году до н. э. они начали ряд войн против македонцев из-за того, что Филипп V во время Второй Пунической войны поддерживал Ганнибала. Разбив македонцев, к середине II века до н. э. римляне воевали со своими бывшими союзниками – Ахейским союзом, объединением греческих городов-государств Центрального и Северного Пелопоннеса. В 146 году до н. э. они одержали победу над союзом в бою у стен Коринфа, богатейшего греческого города. Когда сенат постановил сжечь Коринф, а все ценное забрать в качестве трофеев в Рим, армия-победительница захватила город с ужасающей яростью, чему был свидетелем сам Полибий.
Покорение Греции, когда материковая ее часть, а затем и острова в Эгейском море перешли под протекторат Рима, совершилось всего за несколько десятилетий. Македонские фаланги, прославленные Александром Великим, оказались слабее римских легионов. Тактические подразделения легионов – манипулы, состоявшие из 120 солдат, построенных в три колонны или шеренги, – позволяли римским солдатам быстрее и эффективнее реагировать на изменения на поле боя, чем неповоротливые фаланги.